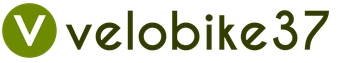Незавершённая революция. Незавершенная революция "Я хочу помочь народу"
В последнее двадцатилетие существования Речи Посполитой, когда ей постоянно угрожала опасность, в политической жизни продолжали соперничать между собой элементы реформы в духе эпохи Просвещения и элементы старого порядка. Данную эпоху можно разделить на следующие периоды: годы правления Постоянного совета (1775–1788), период Четырехлетнего сейма (1788–1792) и разделы 1793 и 1795 гг. Правомерно утверждение о том, что 1775 и 1789–1790 гг. подготовили в Польше революционный перелом. При всех проявлениях слабости и декаданса в Речи Посполитой в этот период наметились и позитивные перемены.
Самые значительные изменения происходили в сфере сознания. Не все участники кризиса 1772–1775 гг. в полной мере понимали смысл происходящего. Связи шляхты с государством были настолько слабыми, что она не считала необходимым взваливать на себя бремя преобразований. Чувства безучастности к судьбе государства не удалось преодолеть и во время Четырехлетнего сейма; не помогли и более радикальные события, например восстание 1794 г. И лишь навязанная захватчиками власть заставила шляхту смириться с необходимостью регулярно платить довольно высокие налоги.
Помня об этом, необходимо с осторожностью оценивать влияние получивших распространение консервативных взглядов, а также популярность реформаторских проектов. От провозглашения государственно-политических реформ до готовности взять на себя груз их реализации путь был неблизким. Круг лиц, которые вдохновляли и осуществляли преобразования, был поначалу очень узок, но основная часть общества, как представлялось, оказалась готовой последовать за ними. Однако как далеко? Можно ли события 90-х годов считать революцией? Ведь именно такое значение имела эта попытка осуществить перемены как в государстве, так и в обществе.
После первого раздела положение Польши было крайне неблагоприятным, но трагический конец еще не был неотвратим. Речь Посполитая потеряла 30 % своей территории и 35 % населения, были нарушены внутренние экономические связи. Особенно ощутимым оказался удар, нанесенный Пруссией, которая ввела таможенные пошлины за транспортировку по Висле польского зерна. В результате экспорт зерна через Гданьск сократился за это время на 60 %, что привело к уменьшению доходов с земельных владений. Так как спрос на хлеб со стороны городов был недостаточным, все большее количество зерна уходило на производство водки. Скотоводство развивалось медленно, потребление мяса не увеличивалось, недооценивалась роль удобрения почвы. Наметившиеся в экономике позитивные тенденции не привели к значительным переменам. Темпы естественного прироста населения оставались высокими, хотя Польша уступала Франции и Англии. Возросшая плотность населения и увеличение урожайности позволили восстанавливать города, которые все еще не могли оправиться после бедствий начала столетия. Стремительно расширялась Варшава, развивалась Познань. Столица, в которой была сосредоточена политическая жизнь, притягивала людей, потерявших свое место в обществе. Это относилось как к шляхте, так и к крестьянству. Формировалось новое городское сословие, состоявшее из интеллигенции, первых польских буржуа и наемных рабочих. Важной для многих оставалась проблема крепостничества, которое тормозило социальное развитие значительной части населения.
Более 75 % всех жителей страны были заняты в сельском хозяйстве; из них 85–90 % составляли крепостные крестьяне. Только в Великой Польше, которая значительно опережала по развитию другие земли, около 30 % крестьян платили оброк вместо барщинных отработок; также здесь проходила самая интенсивная колонизация земель свободными крестьянами (прежде всего, немцами). Появление оброчной системы свидетельствует, прежде всего, о масштабе проблем, с которыми сталкивались землевладельцы, не находившие достаточного рынка сбыта для своей продукции. Однако ситуация не являлась столь безнадежной, иначе крестьяне не справлялись бы с новыми податями. На территориях, где связь с рынком была традиционно более слабой, шляхта в меньшей степени ощущала ухудшение экономической конъюнктуры: она старалась компенсировать свои потери, увеличивая крестьянские повинности и нормы барщины.
Характерной чертой экономических инициатив (особенно магнатских) было подражание моде эпохи Просвещения. Экономические реформы предпринимались для увеличения доходов, но зачастую были простым подражанием модным веяниям, что выражалось, например, в перестройке дворцов и устройстве парков. Особенно дорогими оказались инновации в несельскохозяйственных сферах. Возникло большое число мануфактур, где использовались иностранные технологии и специалисты и одновременно с этим крепостная рабочая сила. Слабостью этих инициатив, которые обычно терпели крах уже спустя несколько лет, было, в первую очередь, отсутствие реальной экономической мотивации. Мануфактуры производили экипажи, игральные карты, фарфор, оружие и десятки других видов изделий, которые были предметами роскоши. Хозяева больших владений пытались принудительным образом создать внутренний рынок, посредством которого осуществлялось бы выкачивание денежных средств у сельского населения. Экономические инициативы магнатов опирались на ресурсы их земельных владений, что позволяло обойтись вложением минимальных наличных средств, а потому магнаты при создании мануфактур несли меньшие затраты, чем мещане. Мануфактуры магнатов были более эффективными и более централизованными, а мещане часто вынуждены были использовать надомных рабочих. Отсутствие необходимой мотивации также являлось источником слабости компаний, в которые, как, например, в Компанию шерстяных мануфактур, вкладывались как магнатские, так и купеческие капиталы.
Интеллектуальное, политическое и экономическое оживление в обществе способствовало росту товарооборота. Уровень кредитных отношений не соответствовал потребностям. Создавались новые банки, но большая часть шляхты обращалась к традиционным источникам кредитования (например, к евреям-ростовщикам) и полученные средства использовала на цели потребления. Очевидным было укрепление городского элемента, но буржуазия еще не сложилась как сословие. По-прежнему за пределами городского и деревенского сообщества проживала фактически повсюду присутствовавшая еврейская община. С ростом экономических трудностей ее представители усиливали свое значение, используя эти трудности для расширения своих прав.
Позитивные явления в экономике, забота о сфере образования и развитии искусства все же не могли предотвратить надвигавшуюся катастрофу. Новые границы Речи Посполитой носили искусственный характер, что подталкивало ее соседей к дальнейшим разделам. Великая и Малая Польша оказалась фактически в тисках, под угрозой оказалась ось развития с северо-запада на юго-восток. Для своего дальнейшего развития Пруссия считала необходимым поглощение Гданьска и Великой Польши. Австрия и Пруссия наряду с экономическими выгодами рассчитывали также и на получение рекрутов, столь необходимых в войнах с Францией. Поэтому Пруссия была заинтересована в уничтожении Речи Посполитой, в то время как Россия все еще надеялась добиться большего, сохраняя систему протектората. Но система протектората таила в себе большие опасности: само существование польского государства все сильнее зависело от воли или каприза императрицы, от личных интересов или страстей влиятельных людей при ее дворе. Насколько в прусской политике ощущалось последовательное осуществление государственного интереса, а в австрийской - преобладание зависти и алчности, настолько интересы и политика России были непоследовательны, ибо могли меняться под влиянием чьей-то личной прихоти.
Политика российского посланника Штакельберга была нацелена на поддержание антагонизма между магнатскими группировками и королевским двором. Проекты усиления Речи Посполитой в качестве союзницы России всерьез не рассматривались. Дело было в том, чтобы оставаясь слабой, Польша не смогла стать ни для кого партнером. Зависимость короля от России отталкивала от него сторонников из числа аристократии. Его противниками были также традиционалисты. В этих условиях попытки Станислава Августа освободиться от внешнего диктата были очень несмелыми, а зачастую просто показными. Поэтому Штакельберга не беспокоили незначительные личные успехи короля; российский посланник считал, что, несмотря на все старания короля и его окружения, зависимость Речи Посполитой будет только усиливаться. Сохранялась и невыгодная для страны международная конъюнктура. Европа надеялась, что державы-захватчицы ограничатся только польскими землями, поэтому никакого интереса к Польше не проявляла. В самом же государстве политические силы, стоявшие на страже прежнего порядка, не считали, что насилие по отношению к Речи Посполитой разрушает принятые нормы жизни. Французская революция, нанося удар по основам старого режима, унаследовала по отношению к Польше прежние стереотипы и предубеждения и не понимала смысла происходивших в ней перемен. Не вызывали у европейских политиков беспокойства и перспективы, возникшие в результате непомерного усиления России и Пруссии. Сложно, однако, предъявлять претензии Европе, коль скоро в самой Речи Посполитой сохранялся различным образом мотивируемый, но всегда малообоснованный оптимизм.
Польскую модель старого порядка характеризовал республиканизм, который понимался как ограничение власти монарха и ослабление вмешательства государства в жизнь граждан. Одновременно с этим созданная для защиты шляхетских свобод система лишала все другие сословия прав и ответственности за судьбы Речи Посполитой. Защищая себя от усиления авторитета монарха, шляхта не сумела создать эффективных преград для олигархии и своеволия магнатов. Оптимизм реформаторов был основан на уверенности, что удастся сплотить достаточно многочисленную группу, которая поддержит перемены, призванные защитить свободы и сохранить доминирующее положение шляхты в государстве. А потому самые большие усилия предпринимались в сфере реформы просвещения. Но реформаторы не учли того факта, что шляхта была не способна добровольно принять ограничения, особенно такие, которые привели бы к усилению государства. Давление социальной и экономической действительности оказалось недостаточным и слишком медленным по сравнению с быстротой происходивших событий.
Реформаторы делали все возможное, чтобы просветить «сарматов», чтобы приобщить Речь Посполитую к обязательным для восприятия европейским образцам. Комиссия национального просвещения стала органом необычайно прогрессивным и имевшим далеко идущие цели, которых удалось достичь, несмотря на стоявшие на пути реформы многочисленные трудности. В годы разделов функционировало 104 средних школы и 10 академических коллегий, в которых училось около 30 тыс. молодых людей. Реформа, проводившаяся такими людьми, как Анджей Замойский, Игнаций Потоцкий, примас Михал Понятовский, священники Гжегож Пирамович и Гуго Коллонтай, заключалась в реорганизации процесса обучения, в стремлении сделать его содержание более современным. Был введен принцип градации школ: начальная (элементарная), трехклассная, средняя, главная. В 1777–1783 гг. Коллонтай осуществил реформу Краковской академии, а выдающийся математик Мартин Почобут-Одланицкий провел аналогичные преобразования в Виленской академии. В новых учебных заведениях на смену латыни пришел польский язык, вводились математика и естественные науки, шла интенсивная подготовка новых учительских кадров. Гораздо больше внимания стали уделять светскому воспитанию, модернизировалось преподавание гуманитарных наук, которым отводилась решающая роль в воспитании будущих граждан. Этим целям служило и созданное в 1775 г. Общество элементарных книг, которое под руководством священника Гжегожа Пирамовича подготовило большое число современных учебников. Реформа не коснулась приходских школ, численность которых достигала 1600, т. е. вдвое меньше, чем в конце XVI в. Движение за возрождение гражданских чувств играло немаловажную роль уже в эпоху Четырехлетнего сейма, но и оно не смогло изменить шляхетского менталитета.
Станислав Август, сам много сделавший для развития просвещения в Польше, горячо поддерживал реформы образования. Но политические взгляды короля по-прежнему расходились со взглядами реформаторов. Контроль со стороны России за деятельностью Постоянного совета настраивал оппозицию против короля, хотя и не приводил к открытой конфронтации. Идеи циркулировали достаточно свободно, а обилие публикаций различных политических ориентации производило впечатление активизации общественной жизни. Значительному расширению интеллектуальных горизонтов способствовала полемика, которая велась постоянно в 1765–1784 гг. на страницах отражавшего идеи Просвещения и редактируемого иезуитом Богомольцем журнала «Монитор». Все более многочисленные литературные произведения, трактаты и политические памфлеты создавали атмосферу интеллектуального оживления, которая распространялась и за пределы Варшавы. Наряду с королевским развивалось и частное меценатство, самым ярким примером которого стала библиотека Залуских: епископ Краковский Анджей Станислав (1695–1754) и его брат, епископ Киевский Юзеф Енджей (1702–1774) создали библиотеку, которая с 1747 г. обрела статус публичной. Это книжное собрание являлось одним из самых больших в Европе (более 300 тыс. томов) и собрало вокруг себя многочисленную группу ученых. Но никакие аргументы о необходимости реформ (как свои, так и чужие), никакие идеи, критиковавшие существовавший порядок вещей или защищавшие славное прошлое, не были в состоянии изменить сложившуюся ситуацию. В масштабе всего шляхетского сословия перемены в сознании не могли наступить быстро, особенно в условиях, когда необходимо было отказаться от привилегий.
В обществе уже давно говорили и писали о том, что необходимо повысить престиж хозяйственной деятельности и усилить государство; признавали выгодность создания мануфактур и торговых компаний (например, для экспорта зерна по Черному морю). Росло понимание того, что нищета земледельцев сдерживает развитие городов и ремесел. Велись дискуссии о преимуществах натуральных податей и о выгодах рациональных форм ведения хозяйства. Высказывались аргументы в пользу упорядочения денежного обращения, расширения кредитных отношений и введения торговых льгот. Однако эти идеи противоречили интересам владельцев фольварков, для которых барщина и крепостное право продолжали оставаться догмами.
Изменение позиций части магнатов и политически активной шляхты проявилось в отказе от принципа liberum veto . Но польские политики по-прежнему слабо ориентировались в расстановке сил на международной арене. Антикоролевская оппозиция в новом составе все еще делилась на «патриотически-гетманскую» и реформаторскую. Республиканцы выступали за децентрализацию власти, а со временем пришли к мысли о необходимости замены монархии федерацией. Их противники стремились усовершенствовать сеймовую систему, уделяя все меньше внимания проблеме усиления центральной власти. Первые считали себя патриотами, видели в монархе главный источник зла, а в старых установлениях и традициях усматривали лишь одни достоинства. Реформаторы предпочитали иметь просвещенную монархию, которая, однако, не ограничивала бы их свобод. Между членами обеих партий существовали родственные связи, а идейные расхождения отходили на второй план перед личными амбициями. В своих действиях против Станислава Августа обе антироссийские партии сотрудничали со Штакельбергом, стремясь при этом поддерживать непосредственные контакты с иноземными дворами.
В эпоху Постоянного совета Речь Посполитая всецело зависела от политики русского двора и даже от настроения русского посланника, который не без удовольствия унижал Станислава Августа. Король же не видел никакой альтернативы пророссийской политике. Он считал необходимым укреплять свои позиции и назначал в состав Постоянного совета наиболее передовых и независимых деятелей. Уже во время сейма 1776 г. король учредил отдельную канцелярию по делам армии, которую возглавил опытный генерал Ян Конажевский. Из-за отсутствия денег преобразования в армии ограничились, главным образом, подготовкой новых кадров. На сейме было принято важное решение о кодификации права, и эта задача была возложена на экс-канцлера Анджея Замойского. Работа по кодификации активно поддерживалась публицистикой, в которой важную роль сыграли «Патриотические письма» Юзефа Выбицкого (1777). Представленный на сейм 1780 г. проект оказался слишком смелым, он предусматривал также некоторые права для мещан и крестьян. Особую ярость шляхты вызвало предложение расширить свободу передвижения крестьян и разрешить смешанные браки. Духовенство и нунций отвергли право монарха разрешать (или запрещать) оглашение в Польше папских булл. Штакельберг воспользовался случаем, чтобы воспрепятствовать эмансипационным усилиям короля. Кодекс без дискуссии был демонстративно и резко отвергнут.
Король понимал, в каком положении оказалась Речь Посполитая, и пытался постепенно ослабить навязанные ему ограничения. Он стремился к укреплению своей позиции, не порывая при этом с Россией. Постепенно королю удалось найти поддержку среди части сторонников реформ. Станислав Август сотрудничал с ними, содействуя реформе образования, поддерживая литературу и искусство, покровительствуя художникам и архитекторам, участвуя в философских дискуссиях и масонских собраниях. Символом сотрудничества стало членство в 1778 г. в составе Постоянного совета предводителя реформаторов Игнация Потоцкого. В то же время в 1783 г. разошлись пути короля и князя Адама Чарторыского, который создал в Пулавах конкурирующий центр просвещенческих инициатив. Станислав Август рассчитывал выступить в роли союзника России, а реформаторы предпочитали искать других покровителей. После 1776 г. сложилась новая внешнеполитическая конъюнктура, когда Россия стала добиваться сближения с Австрией против Турции. Во время войны за баварское наследство 1778–1779 гг. Речь Посполитая не приняла предложения Пруссии выступить против Габсбургов. В 1780 г. с территории Речи Посполитой были выведены русские войска, находившиеся там со времен избрания Станислава Августа.

После того, как Россия заняла Крым, расстановка сил для Польши оказалась более выгодной. Против России и Австрии складывался союз северных государств: Пруссии, Англии и Голландии. Станислав Август рассчитывал, что участие в войне с Турцией позволит осуществить военную реформу, а также, возможно, сулит территориальные приобретения в Молдавии. Во время встречи с Екатериной II в Каневе (1787) эти планы были отвергнуты. Императрица также не согласилась на низложение короля, за которое ратовала гетманская партия, возглавлявшаяся Северином Жевуским, Францишеком Ксаверием Браницким и Щенсным-Потоцким. Реформаторы-патриоты во главе с Адамом Чарторыским и Игнацием Потоцким обратились к северным государствам, рассчитывая на возвращение Галиции и преобразование Речи Посполитой в английском духе. В стране сохранялось своего рода равновесие, которое было на руку Екатерине. Прусский король был недоволен, царские фавориты постоянно настаивали на более агрессивной политике, и все силы в Речи Посполитой искали способа как-то изменить ситуацию. Эти перемены казались неизбежными при условии реального возрождения государства. Перед заинтересованными сторонами стояла дилемма: стоит либо не стоит ввиду совершенно очевидной позиции Петербурга ускорять проведение реформ? Особенно тогда, когда к этому подталкивал Берлин, более всего заинтересованный в нарушении политического равновесия в стране.
В 1788 г. разразилась русско-турецкая война, сразу после этого на Россию напала Швеция. Станислав Август все еще верил, что Польша сможет окрепнуть, если будет опираться на Россию. Лагерь реформ при поддержке Пруссии проводил самостоятельную дипломатическую игру. Дальнейшее подчинение российскому протекторату было невозможно, оно угрожало в любой момент раздроблением государства в угоду очередному фавориту императрицы. Осенью 1788 г. собрался сейм, который вошел в историю как Великий, или Четырехлетний. Екатерина дала согласие на преобразование его в конфедерацию. Жезл маршалка получил сторонник Чарторыских (пулавский лагерь) Станислав Малаховский. Пруссия сразу же выступила с предложением союза и объявила, что впредь не будет гарантом сохранения польских традиционных институтов, что создало для реформаторов возможность освободить страну от российской зависимости. Первым шагом стал закон об увеличении армии до 100 тыс. человек (20 октября 1788 г.). В следующем году из-за нехватки средств численность армии достигла двух третей намеченной цифры, но и это стало настоящим прорывом. Упразднение Постоянного совета означало отказ от признания главенствующей роли России. Станислав Август встал на сторону реформаторов и пошел на сближение с ними. Из Берлина доносились одобрительные возгласы, прусский посол Луккезини пользовался в Варшаве неограниченным влиянием. Взамен за возвращение Польше Галиции и поддержку реформ Пруссия рассчитывала получить Гданьск, Торунь и часть Великой Польши. Был объявлен запрет на поставки русской армии, сражавшейся с Турцией, и выдвинуто требование вывода с территории Польши всех иностранных войск. Провозглашался принцип территориальной неделимости Речи Посполитой, создавалась депутация (сеймовая комиссия) для «улучшения формы управления», вводился чрезвычайный налог: 10 % - на доходы шляхты и 20 % - на доходы духовенства. В течение года настроения в сейме существенно изменились. В атмосфере всеобщего оживления, под влиянием новых интеллектуальных веяний, а также размышлений над реальным положением вещей, вершились дела, целью которых было изменить направление развития и господствовавшую политическую систему Речи Посполитой. После Конарского и Выбицкого наиболее значимые идеи стали высказывать Станислав Сташиц (1755–1826) и Гуго Коллонтай (1750–1820). В 1787 г. вышли в свет «Предостережения Польше» Станислава Сташица с программой усиления королевской власти, введения наследственности престола и реформы сейма. Автор также писал о необходимости способствовать развитию ремесла и торговли, признать права мещан и улучшить положение крестьян. Лозунги личной свободы для крестьян были провозглашены и в сочинениях Коллонтая - «Несколько писем анонима к Станиславу Малаховскому, референдарию коронному, о будущем сейме» (1787) и «Политическое право польского народа» (1790). В будущем Сташиц станет одним из наиболее авторитетных и выдающихся польских деятелей, но никогда не проявит политических амбиций. Самый блестящий ум той эпохи - Коллонтай имел, напротив, чрезмерные политические амбиции. Фактически руководя деятельностью лагеря реформаторов, он не сумел проявить качеств, необходимых для политика крупного масштаба. Примечательно, что в этот критический для Речи Посполитой момент на первый план вышли люди прогрессивные, благородные, с сильным характером, но им не хватило политической зрелости.
Опережавшие свое время, хотя и очень важные на тот исторический момент идеи были высказаны Юзефом Павликовским. В трудах «О польских крепостных» и «Политические мысли для Польши» он писал о необходимости возвращения личной свободы крестьянам, о введении наследственного владения землей и натуральных податей. В той же атмосфере и в той же среде формировались радикальные позиции, тяготевшие к революционным идеям, проникавшим с берегов Сены. Францишек Салезий Езерский (1740–1791) выразил их в «Катехизисе о тайнах польского правления» (1790). Аналогичные взгляды высказывали и другие радикальные публицисты, названные позднее польскими якобинцами. Социальный радикализм носил в Польше поверхностный характер. Очень непросто оценить, сколь глубоким оказалось влияние Просвещения. Магнатские дворы - не только 30 крупнейших родов, но в целом весь слой богатых господ - уже ранее испытали влияние идей космополитизма. В годы правления Понятовского в моде, искусстве и обычаях преобладало французское влияние. В польском обществе, как и во всей Европе, говорили на французском языке, французским идеям отдавалось благоговейное предпочтение. Однако сфера творчества оставалось по преимуществу польской. Ян Потоцкий - путешественник, литератор, издатель и большой оригинал, автор «Рукописи, найденной в Сарагосе» - был исключением. На родном языке писал один из величайших поэтов той эпохи - епископ Игнаций Красицкий (1735–1801), на польском писали автор комедий Францишек Заблоцкий (1752–1821), выдающийся автор эпиграмм Станислав Трембецкий (1739–1812), историки Адам Нарушевич (1733–1793), Юлиан Урсын Немцевич (1758–1841) и десятки других. Польский язык был очищен от засорений латинскими выражениями («макаронизмами»), ему вернули изначальную оригинальность, пострадавшую от чрезмерного использования латыни и французского. Для нужд школы в 1780 г. была издана польская грамматика Онуфрия Копчинского.
Вдохновленные новыми веяниями, публицисты и литераторы резко критиковали пороки и слабости польского общества, подвергая осмеянию и отрицанию все, что они определяли понятием «сарматизм». От недостатков, однако, не могли избавить модные наряды, свободные нравы, общение по-французски и склонность к азартным играм. Наметившийся в середине XVIII столетия перелом продолжал углубляться, но его нельзя было ограничить исключительно выбором между «своим» и «иноземным». Настроения в небольших шляхетских имениях, с их привязанностью к прошлому, были одновременно и патриотичны, и консервативны. Модные столичные господа, несомненно, также поддерживали реформы, равно как и потворствовали своекорыстию и изменам. Однако не здесь проходила линия раздела, которая еще не обозначилась окончательно. Во время Четырехлетнего сейма стала оформляться программа современного патриотизма.
Момент был благоприятным, и нетерпение поляков, недовольных постоянным вмешательством царского посланника, достигло кульминации. Реформаторы осознавали опасность промедления: с одной стороны, в любой момент в Петербурге могла измениться расстановка сил, а с другой - укрепление позиции короля не нравилось ни сторонникам пулавского лагеря, ни «республиканцам». В 1788 г. эти две партии заняли доминирующее положение и стремились к ликвидации навязанной системы правления, хотя и по разным причинам. Но такое положение вещей сохранялось недолго. Одной из основных проблем была реформа сейма. Сторонники реформ выступали за изменение принципов элекции, стремились лишить избирательных прав безземельную шляхту - традиционную опору гетманской партии. Среди послов возобладали антирусские настроения и готовность к проведению необходимых преобразований. Правда, изменения в позиции послов не заходили чересчур далеко, доказательством чего стала судьба и без того слишком скромных налоговых законов. {96}
Наступил период сеймового правления, во время которого произошло сближение, хотя и не до конца искреннее, Станислава Августа и реформаторов. Вырисовывались перспективы создания патриотической партии в современном значении этого слова, т. е. партии, выражающей единство целей короля и народа. С Пруссией 29 марта 1790 г. было заключено оборонительное соглашение, но внешнеполитическая ситуация тем временем изменилась. Летом австрийский император Леопольд II согласился на прусские условия, отказавшись от борьбы с Турцией, а шведский король Густав III вышел из войны с Россией. Польша стала Берлину не нужна и оказалась в конфликте с Россией. Однако еще ничто не предвещало близкой катастрофы. Казалось, что отношения с Веной будут для Польши более выгодными. В австрийской столице осознавали преимущества усиления Речи Посполитой, которое могло стать противовесом прусским аппетитам. В Варшаве плохо представляли себе, какой оборот принимают события, но все же активизировали действия, которые усилили позицию патриотов и обозначили позиции консервативной партии.
Осенью 1790 г. сейм продлил срок своих полномочий, принимая одновременно в свой состав новых депутатов. Таким образом удалось усилить лагерь сторонников преобразований. Была проведена важная реформа сеймиков - ограничено их количество и из числа участников исключались не имевшие собственности представители шляхты. Зимой 1790/91 г. началась работа над Правительственным законом, в которой наряду с группой патриотов принял участие и король. Споры продолжались несколько месяцев. Станислав Август не соглашался с более радикальными идеями Игнация Потоцкого. Было признано необходимым ограничить шляхетские свободы и усовершенствовать государственное устройство. Признаком перемен стал принятый 21 апреля 1791 г. закон о городах. Еще осенью 1789 г., не без влияния Коллонтая, президент Варшавы Ян Декерт предложил представителям королевских городов направить королю и сейму петицию, в которой были бы изложены состояние и нужды мещан. Процессия одетых в черное делегатов произвела огромное впечатление. По мере того, как из Франции доходили вести о происходящих там революционных событиях, в Варшаве нарастало давление на власти с целью решить проблемы городов. Мещане королевских городов получили личную неприкосновенность, доступ к должностям, самоуправление, представительство в сейме и в Казначейской комиссии. Было решено упростить процесс посвящения в шляхетское достоинство (нобилитацию). Одновременно с этим снимался запрет, препятствовавший шляхетскому сословию заниматься торговлей и ремесленной деятельностью.
Перспектива скорого окончания русско-турецкой войны заставила патриотов спешить. Во время сеймовых пасхальных каникул был подготовлен государственный переворот. В результате 3 мая 1791 г. во время сессии, в которой принимала участие лишь малая часть посвященных в заговор послов, был зачитан текст закона, и король присягнул ему на верность, несмотря на протесты своих немногочисленных оппонентов.
Правительственный закон (или Конституция) был революционным по своему характеру, и, прежде всего, с точки зрения предлагавшейся формы государственного устройства. Его составители обратились к французскому, английскому и американскому опыту, но в целом Конституция носила сугубо польский характер. Шляхта признавалась привилегированным сословием, но над крестьянами устанавливалась государственная опека (право казнить крестьян было отнято у шляхты еще в 1768 г.). Иностранные колонисты получили гарантии личной свободы. Это должно было сильно задеть Екатерину, которая боялась, что российские крестьяне начнут убегать в Польшу. Прерогативы короля были ограничены до председательства в сенате и функций президента в «Страже законов» - новом правительстве, в состав которого вошли пять министров, примас, маршал сейма и наследник престола. Закон предусматривал, что после смерти Сигизмунда Августа трон будут наследовать представители саксонской династии Веттинов. Это было самым слабым местом Конституции, свидетельством не только симпатии к этой династии, но и запоздалой убежденности в превосходстве наследственной королевской власти над властью избираемой.

Закон отказался от президентской модели правления, что подвергало Речь Посполитую серьезной опасности, так как согласие саксонского курфюрста к тому времени еще не было получено. Министры назначались королем на сейме и отвечали перед ним. Были созданы комиссии по делам полиции, армии, казны и народного просвещения. Данное решение носило компромиссный характер, королю позволили назначить членов «Стражи законов» по своему усмотрению. И здесь дало о себе знать отсутствие у авторов Конституции практического опыта: Станислав Август сосредоточил власть в своем кабинете и в течение следующего, 1792 г. получил полномочия, которые ранее принадлежали сейму. По Конституции сейм должен был стать органом законодательной власти, созываться раз в два года, но быть готовым к тому, чтобы собраться в любой момент. В его заседаниях участвовала только шляхта, а решения принимались большинством голосов. Подтверждался закон о городах, католицизм провозглашался господствующей религией, признавалась толерантность в отношении других вероисповеданий. Для земель Короны и Литвы вводились единые должности, казна и армия, а митрополит униатской церкви получал место в сенате.
После принятия Конституции политическая активность пошла на убыль, король и патриоты питали надежду на урегулирование отношений с соседними державами, не замечая ни двуличной прусской игры, ни мотивов промедления Екатерины, ни даже тех шансов, которые, возможно, открывались для них в Вене. Берлин спокойно ждал, не желая связывать себя союзом с Польшей. Наоборот, там справедливо рассчитывали на то, что сумеют создать такую ситуацию, при которой Пруссия будет вознаграждена территориальными приобретениями в Речи Посполитой. Леопольд II и канцлер Кауниц допускали, что реформированная Польша поможет сдержать Пруссию, но доводы на этот счет не нашли отклика в Петербурге. Окончательное решение Екатерины силой добиться отмены Конституции от 3 мая было принято в начале 1792 г.
Щенсный-Потоцкий, Ксаверий Браницкий, Северин Жевуский и Шимон Коссаковский провозгласили 27 апреля 1792 г. продиктованный им в Петербурге манифест и создали в Тарговице конфедерацию в защиту прежнего государственного устройства и «Кардинальных прав». В мае в страну вторглась российская армия, троекратно превосходящая по численности польские силы. Война продолжалась менее трех месяцев. Организацию сопротивления в Литве осложняло предательство главнокомандующего литовской армией Людвика Виртембергского. Король в роли верховного главнокомандующего также сыграл роковую роль. Потерпев поражение под крепостью Мир в Белоруссии, войска отступили. Под Зеленцами (16 июня) отступающие отряды князя Юзефа Понятовского добились успеха. Именно в память об этой победе был учрежден военный крест «Virtuti Militari» . На реке Буг переправу под Дубенкой героически защищал Тадеуш Костюшко, но и ему пришлось отступить к Висле. На занятых территориях тарговичане устанавливали свою власть, а часть шляхты поддалась призывам, что во имя веры, свободы и целостности Отчизны необходимо покорностью добиваться прощения императрицы. Расчеты не оправдались. Обманулись и тарговичане. Екатерина отвергла предложение о перемирии и потребовала от короля присоединиться к конфедерации, угрожая ему свержением с престола и новым разделом Польши. Король, поддержанный большинством членов «Стражи законов», вступил в ряды конфедератов. Демонстративные отставки стали единственным ответом пришедших в отчаяние вождей сопротивления. Капитуляция была безоговорочной, хотя отступавшая армия показала, что усилия, потраченные на ее подготовку, не пропали даром.
Вопреки надеждам короля и расчетам изменников, 23 января 1793 г. было подписано соглашение между Россией и Пруссией о втором разделе Польши. После серии поражений во Франции Пруссия добивалась возмещений за счет Польши, в то время как Австрия рассчитывала на более выгодные приобретения в Баварии. Пруссии досталась Великая Польша, Мазовия, Гданьск и Торунь - в общей сложности 58 тыс. кв. км и около 1 млн. жителей. Россия поглотила Белоруссию, Правобережную Украину и Подолию - всего 280 тыс. кв. км и почти 3 млн. человек. То, что осталось от Речи Посполитой вместе с Курляндией, составляло 227 тыс. кв. км и около 4 млн. жителей. Ее судьба была предопределена. Границы в гораздо большей степени, чем после первого раздела, были проведены искусственно и разрушали целостность государственного организма. Аппетиты соседей росли, Польша в роли буферного государства больше не привлекала Россию.
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
§ Глава 1. Историческая перспектива
§ Глава 2. Остановка на пути развития революции
§ Глава 3. Социальная структура
§ Глава 4. Тупик в классовой борьбе
§ Глава 5. Советский Союз и Китайская революция
§ Глава 6. Выводы и прогнозы
Глава 1. Историческая перспектива
Каково значение русской революции для нашего поколения и нашего времени? Оправдала ли революция возлагавшиеся на нее надежды? Естественно желание вновь обратиться к этим вопросам сегодня, через 50 лет после падения царизма и образования первого советского правительства. Годы, отделяющие нас от событий тех лет, дают нам, как представляется, возможность рассматривать их в исторической перспективе. С другой стороны, 50 лет – не такой уж большой срок, тем более что в современной истории не было периода, столь богатого событиями и катаклизмами. Даже самые глубокие социальные потрясения прошлого не поднимали столь важных вопросов, не вызывали столь яростных конфликтов и не пробуждали к действию столь крупные силы, как это сделала русская революция. И революция эта не завершилась, она продолжается. На ее пути еще возможны крутые повороты, еще может измениться ее историческая перспектива. Так что мы обращаемся к теме, которую историографы предпочитают не затрагивать или, если все-таки и берутся за нее, то проявляют чрезвычайную осторожность.
Начнем с того, что люди, стоящие сейчас у власти в Советском Союзе, видят себя законными наследниками большевистской партии 1917 года, и мы все считаем это само собой разумеющимся. А ведь для этого едва ли есть основания. Современные революции ничем не напоминают переворота в России. Ни одна из этих революций не продолжалась полвека. Характерной особенностью русской революции является преемственность, хотя бы и относительная, в том, что касается политических институтов, экономической политики, законодательства и идеологии. Ничего подобного в ходе других революций не наблюдалось. Вспомните, что представляла собой Англия через 50 лет после казни Карла I. К этому моменту английский народ, пережив уже времена Английской революции, Протектората и Реставрации, а также «славную революцию», пытался в период правления Вильгельма и Марии осмыслить богатый опыт бурно прожитых лет, а – еще лучше – забыть все, что было. А за полвека, прошедших со времени взятия Бастилии, французы свергли старую монархию, пережили годы якобинской республики, правления термидорианцев, Консульства и Империи; они были свидетелями возвращения Бурбонов и вновь низвергли их, посадив на трон Луи Филиппа, и половина из отпущенного его буржуазному королевству срока истекла к концу 30-х годов прошлого века, поскольку на горизонте уже маячил призрак революции 1848 года.
Повторение этого классического исторического цикла в России представляется невозможным хотя бы в силу того, что революция в ней продолжается необычайно долго. Невозможно себе представить, чтобы Россия вновь призвала Романовых, хотя бы для того, чтобы во второй раз сбросить их с трона. Невозможно себе также представить, чтобы русские помещики вернулись и, подобно французской земельной аристократии в годы Реставрации, потребовали вернуть им поместья или выплатить компенсацию за них. Крупные французские землевладельцы находились в изгнании лишь около 20 лет; однако, вернувшись, они чувствовали себя чужими и так и не смогли вернуть себе былую славу. Русские помещики и капиталисты, находившиеся в изгнании после 1917 года, поумирали, а их дети и внуки, конечно, уже и не мечтали стать владельцами богатств своих предков. Фабрики и шахты, когда-то принадлежавшие их отцам и дедам, составляют лишь малую часть советской индустрии, которая была создана и развивалась в условиях общественной собственности на средства производства. Канули в Лету все те силы, которые могли бы осуществить реставрацию. Ведь давно уже прекратили свое существование в каком бы то ни было виде (даже в изгнании) все партии, образовавшиеся при старом режиме, включая партии меньшевиков и эсеров, игравшие главные роли на политической сцене в феврале – октябре 1917 года. Осталась лишь одна партия, которая, придя к власти в результате победоносного Октябрьского восстания, по-прежнему единовластно правит страной, прикрываясь флагом и лозунгами 1917 года.
Однако не изменилась ли сама партия? Можем ли мы на самом деле говорить о последовательности развития революции? Официальные советские идеологи отвечают, что преемственность никогда не нарушалась. Существует и противоположная точка зрения; ее сторонники утверждают, что сохранился лишь фасад, идеологический камуфляж, скрывающий действительность, ничего общего не имеющую с высокими идеями 1917 года. На самом деле все намного сложнее и запутаннее, чем можно судить на основании этих противоречивых высказываний. Давайте на минутку представим себе, что безостановочное развитие революции – лишь видимость. Тогда возникает вопрос: почему Советский Союз столь упорно цепляется за нее? И каким образом эта пустая форма, не наполненная соответствующим содержанием, просуществовала уже столько времени? Мы, конечно, не можем принять на веру заявления сменявших друг друга советских лидеров и правителей об их приверженности провозглашенным в свое время идеям и целям революции; однако мы не можем и отвести их как несостоятельные.
Поучительны в этом отношении исторические прецеденты. Во Франции через 50 лет после событий 1789 года никому и в голову бы не пришло представлять себя продолжателем дела Марата и Робеспьера. Франция к этому времени забыла о той великой созидательной роли, которую сыграли в ее судьбе якобинцы. Для французов якобинство означало лишь изобретение ужасной гильотины и террор. Лишь немногие социал-доктринеры, такие как, скажем, Буонарроти (сам пострадавший во время террора), стремились реабилитировать якобинцев. Англия уже давно с отвращением отвергла все, за что стояли Кромвель и его «ратники божьи». Дж. М. Тревельян, чьей благородной работе в области истории я посвящаю свой труд, пишет об очень сильных отрицательных чувствах даже в годы царствования королевы Анны. По его словам, с окончанием периода Реставрации вновь пробудился страх перед Римом; тем не менее
«события пятидесятилетней давности пробудили (в англичанах) и страх перед пуританством. Свержение католической церкви и аристократии, казнь короля и жесткое правление «святых» надолго оставили о себе недобрую и неизгладимую память, подобно тому как это произошло с «кровавой Мэри» и Яковом II». Сила антипуританских настроений сказалась, по мнению Тревельяна, в том, что в царствование королевы Анны «в оценке гражданской войны преобладала точка зрения кавалеров и англиканцев; в частных выступлениях виги высказывались против этой точки зрения, однако открыто заявить об этом решались не часто» .
Тори и виги спорили по поводу «революции», однако речь-то они вели о событиях 1688-1689 годов, а не о 1640-х. Лишь через двести лет англичане стали по-другому смотреть на «великое восстание» и с большим уважением говорить о нем как о революции; и лишь спустя многие годы после этого перед палатой общин была воздвигнута статуя Кромвеля.
До сих пор русские ежедневно толпами устремляются к Мавзолею Ленина на Красной площади, чтобы почти с религиозным благоговением почтить его память. После разоблачения Сталина тело его вынесли из Мавзолея, но не разорвали на части, как тело Кромвеля в Англии или Марата во Франции, а тихо похоронили у Кремлевской стены. А когда его преемники решили частично отказаться от его наследия, они заявили, что обращаются к духовному источнику революции – ленинским принципам и идеалам. Без сомнения, перед нами причудливый восточный ритуал, основанный, однако, на мощном чувстве преемственности. Наследие революции проявляется в той или иной форме в структуре общества и в сознании народа.
Время, конечно же, понятие относительное, даже в истории: полвека – это и много, и мало. Преемственность тоже относительна. Она может быть – и есть – наполовину настоящей, наполовину кажущейся. У нее есть солидная основа, и в то же время она непрочна. У нее есть и крупные достоинства, и недостатки. Во всяком случае, преемственность революции иногда резко обрывалась. Об этом я надеюсь поговорить позднее. Однако сама основа преемственности достаточно прочна, и ни один серьезный историк не должен превратно истолковывать ее или забывать об этом, изучая русскую революцию. Нельзя рассматривать события этих 50 лет как одно из отклонений от нормального хода истории или как плод зловещих замыслов кучки злых людей. Перед нами огромный живой пласт объективной исторической реальности, органический рост социального опыта человека, громадное расширение горизонтов нашего времени. Я, конечно, говорю в основном о созидательной работе Октябрьской революции. Февральская революция 1917 года занимает свое место в истории как прелюдия к Октябрю. Люди моего поколения были свидетелями нескольких таких «февральских революций» – в 1918 году в Германии, Австрии и Польше, в результате чего потеряли троны Гогенцоллерны и Габсбурги. Однако кто сегодня скажет, что германская революция 1918 года – крупное определяющее событие века? Она не затронула старого социального порядка и оказалась прелюдией к подъему нацизма. Если бы Россия остановилась на Февральской революции и дала бы – в 1917 или 1918 году – русский вариант Веймарской республики, вряд ли кто-нибудь вспоминал сегодня о русской революции.
И тем не менее некоторые теоретики и историки все еще считают Октябрьскую революцию явлением почти случайным. Кое-кто утверждает, что революции в России могло и не случиться, если бы царь не настаивал столь упрямо на исключительных правах своей абсолютной власти и пришел к соглашению с лояльно настроенной либеральной оппозицией. Другие говорят, что удача не сопутствовала бы большевикам, если бы Россия не ввязалась в первую мировую войну или если бы она вышла из нее вовремя, то есть до того, как поражение вызвало в стране хаос и разруху. Они считают, что большевики победили из-за ошибок и просчетов, допущенных царем и его советниками, а также теми, кто пришел к власти сразу после падения царя. Нас хотят заставить поверить, что эти ошибки и просчеты случайны, что они – результат суждений или решений того или иного отдельного лица. Без сомнения, царь и его советники наделали немало глупых ошибок. Но они совершали их под нажимом царской бюрократии и тех представителей имущих классов, которые делали ставку на монархию. Не были свободны в своих действиях ни февральский режим, ни правительства князя Львова и Керенского. При них Россия сражалась в войне, поскольку они, как и царские правительства, зависели от тех русских и иностранных центров финансового капитала, которые были заинтересованы в том, чтобы Россия до конца участвовала в войне на стороне Антанты. Эти «ошибки и просчеты» были социально обусловлены. Справедливо также, что война резко обнажила и обострила гибельную слабость старого режима. Но не война – решающая причина этой слабости. Революционные толчки потрясали Россию еще до войны: летом 1914 года улицы Санкт-Петербурга покрылись баррикадами. Начало военных действий и мобилизация остановили нарождавшуюся революцию и задержали ее на два с половиной года, после чего она разразилась с еще большей силой. Даже если бы правительства князя Львова или Керенского вышли из войны, они сделали бы это в условиях столь глубокого и серьезного социального кризиса, что большевистская партия, возможно, все равно победила бы, если не в 1917 году, то позднее. Это, конечно, лишь гипотеза, но ее правдоподобность подтверждается ныне тем, что в Китае партия Мао Цзэдуна захватила власть в 1949 году, через четыре года после окончания второй мировой войны. Это обстоятельство в ретроспективе указывает на возможную связь между первой мировой войной и русской революцией – оно дает основание думать, что эта связь, вероятно, была не столь очевидной, как представлялось в свое время.
Не надо думать, что ход русской революции был предопределен во всех проявлениях или в последовательности основных этапов и отдельных событий. Однако общее направление было подготовлено событиями не нескольких лет или месяцев, а многими десятилетиями, более того, несколькими эпохами. Тот историк, который стремится доказать, что революция – это, в сущности, ряд никем не предвиденных событий, окажется таком же беспомощном положении, в котором оказались политические лидеры, пытавшиеся предотвратить ее.
После каждой революции ее противники ставят под сомнение ее историческую закономерность, причем иногда это происходит два-три столетия спустя. Позвольте привести здесь ответ, данный Тревельяном историкам, высказывавшим сомнения по поводу закономерности «великого восстания»:
«Могла ли парламентская форма правления установиться в Англии ценой меньших жертв, без национального раскола и насилия?.. Ответ на этот вопрос не дадут никакие глубокие исследования и изыскания. Люди есть люди, на них никак не может повлиять запоздалая мудрость грядущих поколений, они действуют так, как они действуют. Может быть, тот же результат и мог быть достигнут как-то по-иному, более мирным путем, однако так случилось: именно мечом парламент отвоевал свое право на господствующее положение, закрепленное английской конституцией» .
Тревельян, идя по стопам Маколея, воздает должное «великому восстанию», хотя и подчеркивает, что на какое-то время нация стала «беднее» и в материальном, и в духовном плане», что, к сожалению, в той или иной мере характерно и для других революций, включая русскую. Делая особый упор на то, что во многом благодаря «великому восстанию» Англия получила свою парламентскую конституционную систему, Тревельян указывает и на непреходящее значение роли, которую сыграли пуритане. Конечно, утверждает он, именно Кромвель и «святые» установили принцип главенства парламента. Этот принцип восторжествовал хотя они выступали против него, а порой, казалось, даже делали попытки покончить с ним. Положительный эффект пуританской революции в конечном счете перевесил ее отрицательные стороны. Mutatis mutandis то же самое можно сказать и применительно к Октябрьской революции. «Люди действовали именно так потому что не могли действовать иначе». Они не могли копировать свои идеалы с западноевропейских моделей парламентской демократии. Именно мечом они завоевали для Советов рабочих и крестьянских депутатов – и для социализма – «право на главенствующее положение» в советской конституционной системе. И хотя благодаря им же самим Советы превратились в пустую форму, именно эти Советы с их социалистической устремленностью стали наиболее отличительной особенностью русской революции.
Что касается Великой французской революции, ее историческая необходимость ставилась под вопрос или отрицалась целым рядом историков, начиная с Эдмунда Бёрка, боящегося распространения якобинства, Алексиса де Токвиля, с недоверием относившегося к любой современной демократии, Ипполита Тэна, который с ужасом говорил о Парижской коммуне, кончая Мадленом, Бенвилем и их последователями, некоторые из которых с поощрения Петена после 1940 года трудились над воссозданием жуткого призрака революции. Любопытно, что из всех писавших на эту тему в англоязычных странах наибольшей популярностью в последнее время пользуется де Токвиль. Многие наши ученые пытались разработать концепцию современной России, опираясь на его книгу «Старый режим и революция». Их привлекает его заявление о том, что революция не означала отхода от французской политической традиции: она просто следовала за основными тенденциями, зародившимися в недрах старого режима, особенно в том, что касается централизованности государства и унификации жизни нации. Точно так же, говорят эти ученые, Советский Союз (в том, что касается его прогрессивных достижений) лишь продолжил индустриализацию и реформы, начатые старым режимом. Если бы царский режим остался у власти или если бы ему на смену пришла буржуазная демократическая республика, работа в этом направлении продолжалась бы, а прогресс был бы более упорядочен и рационален. Россия стала бы второй индустриальной державой мира, не заплатив за это той страшной цены, которую ее заставили заплатить большевики, без экспроприаций, террора, низкого жизненного уровня и моральной деградации эпохи сталинизма.
Как мне представляется, последователи Токвиля недопонимают своего учителя. Принижая созидательную, самобытную роль революции, он тем не менее не отрицал ее необходимости или законности. Напротив, указав на французскую традицию, он пытался принять революцию, оставаясь на своих консервативных позициях, и даже сделать ее неотъемлемой частью национального наследия. Те же, кто считает себя его последователями, с большим рвением принижают самобытную и созидательную роль революции, чем «принимают» ее на каких-либо условиях. Но давайте более внимательно рассмотрим взгляды Токвиля. Конечно, революция не возникает ex nihilo. Каждая революция происходит в определенной социальной среде, породившей ее, и из того «сырья», которое имеется в этой среде.
«Мы хотим строить социализм.., – любил повторять Ленин, – из того материала, который нам оставил капитализм со вчера на сегодня... У нас нет других кирпичей...»
Эти «кирпичи» – традиционные методы правления, жизненные национальные интересы, образ жизни и мышления и различные другие факторы, свидетельствующие как о силе, так и о слабости. Прошлое преломляется в новаторстве революции, сколь бы смелым оно ни было. Якобинцы и Наполеон действительно продолжили строительство единого и централизованного государства, начатое и до определенного момента проводившееся старым режимом. Никто не подчеркнул это с большей силой, чем Карл Маркс в своем сочинении «Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта», появившемся через несколько лет после «Старого режима и революции» Токвиля. Известно также, что Россия по-настоящему вступила на путь индустриализации в годы правления последних двух царей и стремительный выход на политическую арену промышленного рабочего класса был без этого невозможен. Обе страны достигли при старом режиме определенного прогресса в различных областях. Это не означает, что прогресс мог бы продолжаться «упорядоченно», без гигантских «потрясений», вызванных революцией. Напротив, старый режим разрушался именно вследствие достигнутого им прогресса. Революция не была ненужным явлением, она была необходима. Прогрессивным силам было столь тесно в рамках старого порядка, что они взорвали его. Французы, стремившиеся к созданию единого государства, постоянно сталкивались с ограничениями, вызванными феодальной обособленностью. Развивающейся буржуазной экономике Франции необходимы были единый национальный рынок, свободное крестьянство, свободное передвижение людей и товаров, и старый режим мог удовлетворить эти требования лишь в очень узких пределах. Любой марксист объяснил бы это так: производительные силы Франции переросли сложившиеся в ней отношения феодальной собственности, и им стало тесно в рамках бурбонской монархии, которая сохраняла и защищала эти отношения.
Положение в России было схожим, но более сложным. Усилия по модернизации структуры национальной жизни, предпринимавшиеся в царское время, блокировались тяжелым наследием феодализма, слаборазвитостью страны и слабостью буржуазии, косностью самодержавия, архаичной системой правления и, наконец, что не менее важно, экономической зависимостью от иностранного капитала. В эпоху последних Романовых великая империя была наполовину колонией. В руках западных держателей акций находилось 90 % шахт России, 50 % предприятий химической промышленности, свыше 40 % металлургических и машиностроительных предприятий и 42 % банковского капитала. Собственный капитал страны был невелик. Национальный доход явно не удовлетворял имеющиеся потребности. Более половины его приходилось на долю сельского хозяйства, страшно отсталого и вносящего весьма малый вклад в дело накопления капитала. В определенных пределах государство за счет средств, получаемых от налогообложения, создавало основы индустриализации, например строило железные дороги. Но в основном промышленное развитие зависело от иностранного капитала. Однако иностранные предприниматели не были особенно заинтересованы вкладывать получаемые высокие дивиденды в русскую промышленность, особенно когда этому препятствовали капризы своевольной бюрократии и беспорядки в стране.
Россия могла бы, по словам профессора Ростоу, вырваться вперед в деле промышленного развития только за счет своего сельского хозяйства и неимоверных усилий собственных рабочих. Ни одно из этих условий не могло быть выполнено при старом режиме. Царские правительства находились в слишком большой зависимости от западного финансового капитала и не могли отстаивать перед ним национальные интересы России; по своему происхождению и социальному положению министры были еще феодалами и поэтому не могли освободить сельское хозяйство от сдерживающей его развитие власти помещиков (из среды которых даже вышел премьер-министр первого республиканского правительства России 1917 г.). До прихода к власти большевиков ни у одного правительства не нашлось ни политической силы, ни морального права заставить рабочий класс трудиться и идти на жертвы, чего в любых обстоятельствах требует индустриализация. Ни один политический деятель этого периода не обладал необходимым для решения этих задач кругозором, решимостью и современным мышлением. (Граф Витте с его амбициозными планами реформ представлял собой исключение, лишь подтверждавшее правило, и его как премьер-министра и министра финансов практически бойкотировали царь и бюрократия.) Кажется невероятным, чтобы какой-либо нереволюционный по своей сущности режим смог поднять полуграмотную крестьянскую страну до нынешнего уровня советского экономического развития и образования. И здесь марксист сказал бы, что производительные силы России развились в недрах старого режима до той степени, когда они разрушили старую социальную структуру и ее политическую надстройку.
Однако никакой экономический механизм автоматически не вызывает окончательного распада старого установившегося порядка, не обеспечивает успеха революции. Десятилетиями обветшалая общественная система может приходить в упадок, а большая часть нации может и не осознавать этого. Общественное сознание отстает от общественного бытия. Объективные противоречия старого режима должны воплотиться в субъективных формах – в идеях, стремлениях и страстях людей действия. Основа революции, говорил Троцкий, состоит в непосредственном вмешательстве масс в исторические события. Именно в силу этого вмешательства – а это столь же реально, сколь и редко в истории, – год 1917-й стал столь выдающимся и важным. Огромные массы народа в полной мере сразу осознали, что установившийся порядок находится в состоянии разложения и загнивает. Произошло это в один момент. Сознание устремилось за бытием в стремлении изменить его. Однако этот резкий скачок вперед, это неожиданное изменение в психологии масс не возникли на пустом месте. Потребовались десятилетия трудов революционеров, медленного вызревания идей – за это время родилось и исчезло множество партий и групп, – чтобы создать морально-политический климат, вырастить лидеров, создать партии и выработать методы действий, примененные в 1917 году. В этом не было ничего случайного. За полувековым периодом революции стоит целое столетие революционной борьбы.
Социальный кризис, в котором оказалась царская Россия, проявился в острейшем противоречии между ее положением крупной, великой державы и давно изжившей себя социальной системой общества, между блеском империи и плачевным состоянием ее институтов. Впервые это противоречие обнажилось после победы России в наполеоновских войнах. Пробудились к действию ее самые смелые силы. В 1825 году против царя поднялись с оружием в руках декабристы. Они принадлежали к аристократической, интеллектуальной элите; однако против них выступила большая часть дворянства. Содействовать прогрессу в России не мог ни один класс. Города были немногочисленными, средневековыми по своему характеру; городской средний класс, безграмотные купцы и ремесленники политически не представляли собой никакой силы. Время от времени восставали крепостные крестьяне; однако со времени подавления восстания Пугачева не было сколько-нибудь серьезных выступлений за освобождение. Декабристы были революционерами, но за ними не стоял революционный класс. В этом и была их трагедия и трагедия последующих поколений русских радикалов и революционеров почти до конца XIX века – в различных формах эта трагедия сказывалась также и в послереволюционный период.
Давайте вкратце остановимся на основных моментах этого периода. Около середины XIX столетия появились новые радикалы и революционеры-разночинцы. Они вышли из среды медленно формирующихся средних классов: многие из них происходили из семей чиновников и священников. Они тоже были революционерами, стремившимися найти революционный класс. Буржуазия по-прежнему никакой силы не представляла. Чиновники и священники были в ужасе от бунтарских настроений своих сыновей, крестьянство – апатично и пассивно. В пользу реформ выступала лишь часть дворянства, а именно помещики, стремившиеся внедрить новые методы земледелия либо заняться промышленным производством или торговлей; они желали отмены крепостного права и либерализации управления государством и системы образования. Когда Александр II, поддавшись на уговоры этих помещиков, отменил крепостное право, он на десятилетия завоевал для своей династии полную поддержку крестьянства. Закон 1861 года об отмене крепостного права вновь оставил радикалов и революционеров в одиночестве и фактически отсрочил революцию более чем на полстолетия. Однако вопрос о земле остался не решенным. Крепостные получили свободу, но не землю; чтобы получить возможность пользоваться землей, им приходилось брать займы под высокие проценты и отбывать повинности или становиться издольщиками. Образ жизни народа безнадежно отставал от веяний времени. Подобное состояние дел и гнетущая атмосфера самодержавия вызывали возмущение все новых представителей интеллигенции, способствовали возникновению новых идей и новых методов политической борьбы. Каждое новое поколение революционеров опиралось только на свои собственные силы, и каждый раз все их усилия оказывались тщетными. Скажем, народники, вдохновленные Герценом и Бакуниным, Чернышевским и Лавровым, объективно представляли собой боевой авангард крестьянства. Но когда они обратились к мужикам и попытались открыть им глаза на то, что освобождение от крепостной зависимости – это обман и новая форма их закабаления со стороны царя и помещиков, бывшие крепостные или не реагировали, или вообще их не слушали; нередко они передавали народников в руки жандармов. Таким образом, угнетаемый социальный класс с его огромным революционным потенциалом предавал свою собственную революционную элиту. Последователи народников – народовольцы отказались от очевидно безнадежных поисков революционной народной силы в обществе. Они решили действовать в одиночку, отстаивая интересы угнетенного, безмолвного народа. На смену популизму народничества пришел политический терроризм. На смену пропагандистам и агитаторам, которые «шли в народ» или даже пытались прижиться среди крестьян, пришли молчаливые героические одиночки-конспираторы, своего рода «супермены», полные решимости победить или погибнуть, и взялись за решение задачи, которую не могла решить нация. В кружке, члены которого убили Александра II в 1881 году, состояло меньше 20 человек. Шесть лет спустя десяток молодых людей, среди которых был и старший брат Ленина, образовали группу, решившую убить Александра III. Эти крошечные организации заговорщиков держали в страхе огромную империю и вошли в историю. Тем не менее неудачи народников 60-х и 70-х годов прошлого века продемонстрировали нереальность надежды на возможность подъема крестьянства, а мученичество народовольцев 80-х годов еще раз показало бессилие авангарда, действующего без поддержки одного из основных классов общества. Их горький опыт послужил бесценным опытом для революционеров последующих десятилетий, так что в этом смысле их усилия не были бесплодными. Мораль, которую извлекли для себя Плеханов, Засулич, Ленин, Мартов и их товарищи, состояла в том, что они не должны быть изолированным авангардом, а добиваться поддержки революционного класса. Крестьянство же таковым, по их мнению, не являлось. К этому времени, однако, начало промышленного развития России решило за них эту проблему. Марксистские пропагандисты и агитаторы ленинского поколения нашли в фабричных рабочих свою аудиторию.
Следует отметить очевидную диалектику этой длительной борьбы. Во-первых, налицо противоречие между общественной потребностью и общественным сознанием. Не могло быть более естественной потребности или интереса, чем стремление крестьян получить землю и свободу; тем не менее общественное сознание довольствовалось в течение полувека законом, который, освобождая от крепостного рабства, не давал крестьянам земли и свободы, причем все это время мужики надеялись, что царь-батюшка придет им на помощь. Это несоответствие между потребностью и сознанием лежало в основе многих метаморфоз революционного движения. Сама логика положения диктовала эти различные модели организации: замыкающаяся сама в себе элитарная группа заговорщиков, с одной стороны, и движение, ориентированное на вовлечение масс, – С другой; она же диктовала и новый тип революционера-диктатора и революционера-демократа. Следует также отметить особую, исключительную и исторически действенную роль, которую играла во всем этом интеллигенция, – ничего подобного в других странах не встречалось. На протяжении поколений ее представители бросались в атаку на царское самодержавие и каждый раз наталкивались на твердую стену, прокладывая тем не менее путь для тех, кто шел за ними. Их вдохновляла почти мессианская вера в свою революционную миссию и в миссию России. Когда наконец на передний план вышли марксисты, они унаследовали богатые традиции и уникальный опыт; они критически оценили и эффективно использовали и эти традиции, и этот опыт. Но они также унаследовали и определенные проблемы и дилеммы.
От империй - к империализму [Государство и возникновение буржуазной цивилизации] Кагарлицкий Борис Юльевич
НЕЗАВЕРШЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИИ
НЕЗАВЕРШЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИИ
«Повиновение мертво, справедливость страдает, ни в чем нет правильного порядка», - говорит анонимный автор трактата «Reformatio Sigismundi», написанного в середине XV века. Это было время, которое лучше всего можно было бы охарактеризовать словами Сталина, сказанными про другое время и в других обстоятельствах - «эпоха войн и революций».
Английский историк Томас Брэди (Thomas A. Brady) называет конец XIV - начало XV века «золотым веком простолюдина» (political Golden Age of the Common Man), временем, которое дало массам «элементы самоуправления», но одновременно было «временем стагнации, беспорядка и нестабильности» (stagnant, troubled and disrupted). Подобная характеристика может быть применима практически к любой революционной эпохе. Народные выступления позднего Средневековья не привели и не могли привести к формированию демократического порядка, поскольку, будучи (как мы увидим ниже) ранней попыткой буржуазной революции, они не могли ни создать нового буржуазного общества, ни удовлетворить потребности масс в реальном народовластии. Кризис позднего феодализма был в конечном счете, преодолен режимами «цезаристского» или даже «бонапартистского» типа. Новое абсолютистское государство могло взять в свои руки управление процессом общественных преобразований, который не сумело осуществить само общество. Но и новая монархическая система не могла полностью преодолеть кризис до тех пор, пока в ее распоряжении не оказались дополнительные ресурсы, позволяющие форсировать процесс развития.
Эпицентрами перемен стали Англия, Богемия и Фландрия, где новые общественные отношения прокладывали себе дорогу через острые политические и идеологические конфликты, подрывая старый, сложившийся на протяжении столетий и, казалось бы, естественный порядок вещей.
Несмотря на то что по уровню экономического развития и традициям городских свобод Фландрия XIV века может легко быть поставлена в один ряд с Италией, она представляла собой более сложную политическую картину. Характеризуя идеологическую эволюцию фламандского общества, А. Пиренн замечает, что среди горожан распространяется, «как почти во всех торговых и промышленных государствах, республиканский идеал». Города, обретя значительную самостоятельность, не смогли здесь полностью избавиться от феодальной зависимости. Тем самым они оказывались вовлеченными в гораздо более масштабный социально-политический процесс, отстаивая не только собственные интересы, но и выступая силой, преобразующей окружающее общество. Причем не только во Фландрии и Брабанте, но также в Англии и Франции, отчасти даже в Германии.
В начале XIV века города Фландрии пережили острую вспышку социальных конфликтов, завершившихся французской интервенцией, которая, однако, обернулась катастрофой для армии вторжения. Как отмечает Пиренн, франко-фламандская война была результатом «не только политического конфликта, но и борьбы классов».
Города Фландрии становятся «ареной социального движения, серьезность которого все усиливается по мере приближения к XIV веку». В 1280 году по всей Фландрии происходили восстания городских низов, сопровождавшиеся баррикадными боями на улицах. Страх перед массами заставил патрициат обратиться за помощью к французскому королю, втягивая Париж в местную политическую жизнь. Так закрутилась спираль событий, которая в конечном счете привела к битве при Куртрэ и к Столетней войне.
Во фламандском войске, вставшем на пути французской армии в 1302 году, лишь немногие вожди были по своему происхождению из феодалов и патрициев, выступая по сути в роли военных специалистов при народной армии. В массе своей привилегированные классы были полностью на стороне французов, именно благодаря их призывам французские силы прибыли во Фландрию. «Все пестрело противоречиями во фландрской армии, в которой молодые князья, воспитанные на французский лад и говорившие только по-французски, командовали массами рабочих и крестьян, язык которых едва понимали». Эта наспех собранная и на первый взгляд не слишком боеспособная армия нанесла при Куртрэ (Courtrai) сокрушительное поражение интервентам, уничтожив цвет французского рыцарства. Эта битва оказалась не только первой решительной победой пехоты над кавалерией, положив начало перевороту в военном деле, но и прообразом целого ряда революционных битв, подобных сражению при Вальми, в ходе которых революционная масса демонстрировала свое превосходство над профессиональной армией.
Гражданская война, перемежавшаяся с французскими интервенциями, продолжалась во Фландрии на протяжении двух десятилетий, завершившись в конце концов восстановлением феодального режима и номинального суверенитета Франции. Крупная буржуазия, напуганная растущим политическим влиянием городских низов, предпочла уступить во имя порядка и стабильности. Восстание выдыхалось. Спустя 26 лет после Куртрэ в битве при Касселе (Cassel) французские рыцари смогли взять реванш, одержав верх над фламандским ополчением. Начались массовые репрессии, и казалось, что мятежный дух Фландрии сломлен. Однако конфликту очень скоро предстояло вспыхнуть вновь, уже в форме международной конфронтации, в которую наряду с Францией оказалась втянута и Англия.
Разумеется, понятие «международного конфликта» применительно к той эпохе можно использовать лишь условно. Поскольку национального государства еще не существовало, то и границы того или иного «общества» оставались весьма расплывчатыми. Однако применительно к Богемии и Англии можно все же говорить об обществе, физические границы которого более или менее совпадают с границами государства. Именно поэтому здесь наблюдаются наиболее интенсивные политические и социальные процессы, а социальные и культурные перемены, охватывая широкие массы населения, не оставляют никого в стороне, неизбежно порождая идеологические и политические кризисы. Взаимное влияние города и деревни настолько велико, что кризис феодального порядка охватывает все стороны жизни. Политическая борьба, начавшаяся с одного локального конфликта, разрастается и распространяется по всей стране, вовлекая в себя не только разные территории, но и различные группы населения. Именно в этих конфликтах формируется у людей чувство сопричастности к тому, что происходит по всей стране, складывается национальное государство.
В Англии и Богемии социальные конфликты быстро приобретают масштабы революционного кризиса. Более того, стремление к общественному переустройству получает в обеих странах сходное идеологическое обоснование в виде учений Уиклифа и Гуса, являющихся явными предшественниками и по существу ранними представителями религиозной Реформации. Напротив, во Франции кризис XIV века сопровождается скорее укреплением позиций традиционной феодальной знати - последующие бурные перемены в значительной степени оказались результатом внешних воздействий и вызовов.
Феодальная централизация, осуществленная королями Англии и Франции в XIII веке, имела то неожиданное последствие, что изменила политическую структуру и систему интересов феодального класса. Если в прежние времена удельные князья боролись с королем за самостоятельность, отстаивая интересы провинций против столицы, то в конце XIV–XV веке феодальные магнаты уже борются между собой за влияние при дворе, стремясь, как пишет Эдуард Перруа (Eduard Perroy), «подчинить себе администрацию, держать под контролем государство». При этом они отнюдь не утрачивают связь с провинциями. Модернизируя систему управления в своих собственных владениях, они копируют там структуры центральной администрации, превращая свой двор в «настоящий питомник функционеров». Теперь задача состоит не в том, чтобы отстоять политическую самостоятельность, а в том, чтобы использовать королевскую бюрократию и финансы для перераспределения в свою пользу общегосударственных средств. По большей части финансовых, но зачастую военных и дипломатических (внешнеполитические возможности государства все чаще используются для поддержки династических интересов «своей» аристократии за его пределами).
Если в Англии к началу XV века казалось, что с победой Ланкастеров централизованная государственная бюрократия при поддержке буржуазии и мелкопоместного дворянства подавила феодальных магнатов, которые здесь изначально были слабее, чем на континенте, то во Франции магнаты все более брали верх, а буржуазные лидеры метались между соперничающими аристократическими партиями, пытаясь защитить свои интересы, вступая в блок с одной из них. В значительной степени подобная рефеодализация Франции оказалась результатом предшествующей политики централизации. В XIII веке почти все крупные вассальные домены на территории королевства были ликвидированы или жестко подчинены монархии (исключениями были Бретань и Гасконь, принадлежавшая английским Плантагенетам). Однако королевская власть в XIV веке начала раздавать новые вотчины родственникам и клиентам правящей династии. Хозяева этих наделов первоначально были (в отличие от магнатов прошлой эпохи) жестко ограничены в правах, наследование вотчин не было автоматическим, а Париж мог в любое время изъять или конфисковать эти владения. Но по мере развития экономического и политического кризиса способность центра контролировать ситуацию слабела.
Таким образом, развитие политического процесса в разных странах идет разными путями. Если в Богемии мы видим революцию масс, сопровождающуюся гражданской войной и иностранной интервенцией, то в Англии, несмотря на массовые народные выступления, перемены в конечном счете обретают форму «революции сверху» или, пользуясь выражением Антонио Грамши, «пассивной революции», когда верхи, подавив сопротивление низов, одновременно идут на выполнение значительной части их требований; а во Франции «революция сверху», осуществленная на полвека позже Карлом VII, оказывается как ответом на поражения, нанесенные ему англичанами, так и следствием перемен, сопровождавших английское проникновение в страну.
Социальное преобразование двух стран, которым столетия спустя предстоит стать культурными, экономическими и политическими лидерами Европы, разворачивается на фоне многолетнего вооруженного конфликта между их королями. Именно королями, а не странами, поскольку значительная часть французского общества до самого конца Столетней войны держала сторону английской династии. И вовсе не воспринимала это как предательство национальных интересов, поскольку само понятие о чем-то подобном еще не существовало.
Продолжавшаяся больше ста лет война (в которой, по иронии судьбы, принял участие и основатель династии Богемских Люксембургов Иоанн Слепой) задним числом представлялась историками как первый межгосударственный конфликт современного типа, легший в основу позднейшего противостояния двух держав или как событие, которое привело к пробуждению национального сознания. Однако эта успокоительно-банальная формулировка скорее запутывает вопрос, нежели проясняет его. Какое отношение имеет «пробуждение сознания» к формированию нации как историческому процессу? Одно из двух: либо нации в Англии и Франции уже существовали реально, а благодаря Столетней войне люди вдруг разом осознали этот факт, либо, наоборот, нации сформировались идеальным образом в результате развития сознания, которое как-то само собой пробудилось в ходе войны. При этом любое проявление лояльности к своему королю или просто воинской доблести, религиозной аффектации или наоборот рационального выбора в пользу победителя нам подают в качестве очередного доказательства национальных чувств, хотя горы аналогичных «доказательств» можно было бы набрать и на столетие раньше.
Исследования Эдуарда Перруа в значительной мере поколебали подобное представление о Столетней войне. Однако поздняя советская и российская историография оказывается последним бастионом старой французской школы, описывающей конфликт пятисотлетней давности с позиций национального противостояния. Если новообращенные варвары склонны быть большими католиками, чем сам Папа, то российские историки в повторении мифов французского патриотизма порой умудряются перещеголять самих французов.
Подобный взгляд на историю принципиально исключает анализ, и в особенности анализ классовый. Националистическая мифология апеллирует к эмоциям. Она выискивает в средневековых источниках малейшие проявления патриотических чувств либо то, что может быть истолковано как проявление таковых (например, победные кличи армий и возгласы толп), игнорируя огромный массив свидетельств, убедительно говорящих об обратном. А понятие «своих» и «чужих» задним числом интерпретируется в духе государственного патриотизма.
Разумеется, Столетняя война имела прямое отношение к возникновению современных наций, поскольку была связана с формированием национальных государств. Однако в Англии новое государство, начавшее формироваться еще до войны, к ее исходу переживало кризис, завершившийся обрушением всего политического здания. И наоборот, во Франции новый государственный порядок стал складываться только к концу противостояния, а завершилось его становление значительно позже. Реальная история Столетней войны - это не только и не столько история борьбы англичан и французов, сколько история серии гражданских войн в самой Франции, сопровождавшихся чередой английских интервенций. Завершение французской гражданской войны и консолидация нового государства, в свою очередь, обернулось крахом политической системы и вспышкой гражданской войны в Англии.
Война началась в результате обострения сразу двух тлеющих конфликтов, которые возникли значительно раньше. С одной стороны, принадлежавшая английскому королю Гасконь (то, что осталось от домена Плантагенетов во Франции) была постоянным яблоком раздора между Парижем и Лондоном. С другой стороны, фламандские города, отстаивавшие свою самостоятельность по отношению как к местным сеньорам, так и к французскому королю, стремились получить поддержку Англии. Поставки шерсти во Фландрию были важнейшим фактором английской экономики - от них в большой степени зависели и королевский бюджет, и доходы купцов, и поступление денег в сельское хозяйство. В свою очередь, перманентный финансовый кризис, переживаемый королевским правительством Франции, толкнул его на действия, обострившие обе проблемы разом. С одной стороны, усиливалось французское давление на богатую Фландрию, с другой - в Париже в очередной раз решили конфисковать домен Плантагенетов в Гаскони (Гиень). Такие попытки предпринимались уже несколько раз и регулярно заканчивались соглашениями. Однако на сей раз терпение лондонского двора лопнуло. Дело усугублялось тем, что правивший в Англии Эдуард III имел на французский трон не меньшие, а может быть и большие права, чем новая династия Валуа, совсем недавно воцарившаяся в Париже. Правда, пока Гасконь никто не трогал, Эдуард тоже своих прав не предъявлял, даже принес омаж французскому королю за эту территорию. Но после того как Париж объявил о конфискации, в Лондоне вспомнили про наследственные права.
Как отмечает французский историк Эдуард Перруа, начавшаяся война была «по происхождению феодальным конфликтом», и она оставалась таковым «почти до конца XIV в., то есть до восхождения Ланкастеров на английский трон». Плантагенеты всегда готовы были отказаться от своих прав, гарантируя мир в обмен на территории. Описывая политику Эдуарда III накануне мира в Бретиньи (Br?tigny), Перруа заключает: «Династические притязания для него - лишь разменная монета. И тут же выяснилось, чего он действительно хотел: возвращения Гиени в пределах, как можно более широких, - пока речь шла о границах герцогства времен доброго короля Людовика Святого, но от успехов английского оружия аппетиты будут возрастать. Более того, для этой увеличенной Гиени он был намерен требовать полного суверенитета: больше никаких вассальных связей, никакого вмешательства французских чиновников в ее дела, никаких апелляций в Парижский парламент, никаких угроз конфискации. Если бы Гиень перестала быть частью Французского королевства, Плантагенеты наконец стали бы в ней хозяевами, а сам повод к войне исчез». Показательно, что новое суверенное княжество Аквитания, созданное на основе старой Гиени, оказывалось бы неподконтрольно и лондонскому парламенту, превращаясь в личную собственность династии.
Однако если Плантагенеты отстаивали свои династические права, то у торговцев и ремесленников Фландрии, подталкивавших Эдуарда III к войне с Францией, был собственный интерес. В 1339 году Фландрия и Брабант заключили антифранцузский договор, мотивируя совместные действия тем, что «эти две страны полны людей, которые не могут существовать без торговли». Еще до того, как союз с Англией был оформлен открыто, к этому договору примкнула Голландия. А в 1340 году Эдуард III, побуждаемый фламандскими лидерами, принес на Пятницком рынке в Генте присягу в качестве нового короля Франции, обещая соблюдать права и независимость городов Фландрии. Легко заметить, от кого исходила инициатива. Английский король колебался, но фламандцы толкали его на необратимые шаги, видя в борьбе двух королевств единственную защиту от французского феодального рэкета.
На первых порах, похоже, не только в Париже, но и в самом Лондоне не понимали, что бросив вызов Плантагенетам, французские короли ввязались в конфликт с государством, которое за полтора столетия, прошедших со времени Великой хартии вольностей и реформ Симона де Монфора, радикально модернизировалось и теперь существенно отличалось от государств континента. Очень скоро эта разница обнаружилась. И не только на полях сражений.
Еще до того, как первые английские солдаты высадились на континенте, в Лондоне продемонстрировали, что эта война будет совершенно непохожа на все предыдущие. Она заложила основу важнейшего института, без которого трудно представить себе более позднее государство: массовой пропаганде.
Разумеется, определенная система идеологического господства характерна для любого классового общества, но прежде ведущую идеологическую роль играла Церковь. Больше того, короли и князья мало задумывались о том, как обеспечить информирование и поддержку своих подданных по вопросам текущей политики, не говоря уже о международном общественном мнении. Теперь все было иначе. «Помимо официальных писем к папе, кардиналам и светским правителям, король Эдуард предпринял целую серию обращений к своим подданным, подданным французской короны и других государств. Эти обращения и прокламации расклеивались на дверях храмов во всех крупных городах, а также зачитывались вслух королевскими чиновниками и клириками в местах скопления народа, информируя людей о различных важнейших событиях: о причинах войны, о нападениях врага, победах, перемириях и т. д.». Значительное место в этих прокламациях уделялось нападениям французских пиратов на английских купцов и торговые города. А некоторые аргументы могут вызвать изумление тем, насколько они напоминают политическую пропаганду конца XX века. Так, доказывая свое право унаследовать французскую корону по женской линии (в связи с отсутствием прямого потомства по мужской), Эдуард, вполне в духе современного феминизма, обвиняет своего французского соперника в том, что тот сеет ненависть «человека к человеку» и «пола к полу», что Филипп Валуа «попирает права женщин, что является нарушением закона природы» (jus naturae).
Прибегли в Лондоне не только к методам психологической войны, но и к войне экономической. Впервые в качестве средства борьбы между государствами использовалась торговая блокада. Стремясь дестабилизировать положение во Фландрии, Эдуард III запретил экспорт шерсти, на которой держалось фламандское ткачество. Побочным эффектом этой меры было развитие собственного английского производства (тем более, что многие фламандские ткачи перебрались на остров). Однако главная цель блокады состояла в том, чтобы усугубить прекрасно осознаваемый в Лондоне классовый конфликт между буржуазией и феодальной элитой во Фландрии. Причем попытку удачную. Эмбарго, наложенное Эдуардом III на поставку шерсти во Фландрию, нанесло удар по суконной промышленности этого края и способствовало развитию данной отрасли в самой Англии. Но важнейшим последствием этого решения стало то, что снова пришел в действие механизм социального конфликта, который был блокирован на протяжении нескольких десятилетий победой французов при Касселе в 1328 году.
Народные движения, которые в начале XIV века нанесли мощные удары феодальной знати, господству городских патрициев и власти французского короля, были хоть и с большим трудом подавлены после битвы при Касселе. Брюгге и Ипр, игравшие решающую роль в демократических восстаниях, были истощены борьбой и утратили прежнюю роль, однако в середине столетия на первое место выдвигается Гент, где местный патрициат ранее удерживал ситуацию под контролем, избегая демократических переворотов и противостояния с Францией. Социальный мир обеспечивался в городе за счет уступок и компромиссов, которые постепенно вели к усилению позиций демократической партии. Массовая безработица сопровождалась взрывом ненависти к правительству, допустившему конфликт с Англией и остановку промышленности. Как пишет Анри Пиренн: «Патриции, со столь давних пор управлявшие городом объединились с теми самыми ткачами, все попытки которых к восстанию они еще недавно беспощадно подавляли». В начале января 1338 года во главе города встало революционное правительство из пяти капитанов (hooftmannen) и трех старшин, представлявших соответственно ткачей, сукновалов и мелкие цеховые объединения. Этот компромисс открыл путь к власти легендарному Якобу Артевельде (Artevelde). Возглавив демократическую партию, он сумел сплотить вокруг Гента города Фландрии и, объединившись с англичанами, нанести тяжелый удар по французской короне.
Артевельде, которого консервативные авторы изображают (как и всякого революционера) кровавым тираном, стал героем фламандских народных песен и левых историков более позднего времени. В свою очередь Пиренн оценивает его как эффективного и энергичного оппортуниста. На деле лидер Гента «питал к рабочим суконной промышленности те же чувства недоверия и вражды, как и другие городские капиталисты». Однако будучи проницательным политиком, он сделал ставку на поднимающуюся волну демократического движения и чутко реагировал на давление и требования масс. В правительство Гента он вошел в качестве одного из трех капитанов, представлявших как раз интересы привилегированных слоев, но став одним из лидеров города, примкнул к демократической партии. В скором времени, благодаря успешно проведенным переговорам с англичанами, шерсть вновь стала поступать на сукновальни Гента и других фламандских городов.
После неудачной осады Турнэ (Tournai) позиции Артевельде пошатнулись, как и союз Фландрии с Брабантом, патриции которого опасались распространения в своих землях влияния демократической партии, а в самом Генте начались столкновения между поддерживавшими Артевельде ремесленными цехами - ткачи и сукновалы дошли до вооруженного столкновения между собой. Вскоре в Генте вспыхнули новые волнения, в ходе которых Артевельде погиб, пытаясь противостоять установлению диктатуры ткачей. По словам Пиренна, этот политик неминуемо был обречен на крах. В основе его карьеры стоял классовый компромисс. «Но интересы этих классов были слишком противоположны, чтобы согласие их могло быть продолжительным. В силу противоречия интересов между богатыми и бедными, купцами и рабочими, мелкими цехами и цехами, занимавшимися обработкой шерсти, затем противоречий внутри самих этих цехов, наконец, ввиду соперничества между ткачами и сукновалами, гармония первых дней вскоре сменилась столкновениями и гражданской борьбой». Новые социальные противоречия были уже слишком развиты, чтобы сохранить возможность эффективной политики, построенной на сословном представительстве, договорах между цехами и династических комбинациях, но они были еще слишком слабо развиты, чтобы обеспечить возникновение новой политики, опирающейся на устойчивые и консолидированные интересы ведущих классов. В этом, впрочем, была не только драма Артевельде, но и всей его эпохи, в этом была заложена одна из важнейших причин неудачи революционных и реформистских попыток, порожденных «кризисом XIV века».
Данный текст является ознакомительным фрагментом. Из книги Великая русская революция, 1905-1922 автора Лысков Дмитрий Юрьевич4. Теория Перманентной революции и Мировой революции. Ленин против Маркса, Троцкий за Ленина Ленин пошел, казалось, на немыслимое: в силу особой специфики России движущей силой и руководителем революции, которая по всем признакам должна была быть буржуазной, он объявил
Из книги Политика: История территориальных захватов. XV-XX века: Сочинения автора Тарле Евгений Викторович Из книги Пинбол-эффект. От византийских мозаик до транзисторов и другие путешествия во времени автора Бёрк Джеймс2 Революции Исторический миф - живучая штука. Несмотря на все опровержения, несмотря на факты, мифы продолжают существовать. Например, вот такой: Джеймс Уатт сидит с мамой на кухне, смотрит на кипящий на плите чайник и мечтает о паровой машине, промышленной революции и
Из книги Всемирная история: в 6 томах. Том 3: Мир в раннее Новое время автора Коллектив авторовРЕВОЛЮЦИИ Рубеж Средних веков и Нового времени ознаменован явлением, которое сегодня мы называем «революциями». Восстания, перевороты и мятежи сопровождали всю историю властных отношений в человеческом обществе. Но о революциях заговорили тогда, когда стало заметно,
Из книги Гитлер автора Штайнер МарлисРеволюции Как мы видели, стремление заняться политикой появилось у Гитлера вследствие ноябрьских событий 1918 года. Что он вообще думал о революциях?Он называл революцию Эберта «лимонадной» и пытался изгнать призрак второй революции, в результате которой Германия стала
Из книги История Дальнего Востока. Восточная и Юго-Восточная Азия автора Крофтс АльфредТРИ РЕВОЛЮЦИИ Первая революция: Гоминьдан Временная конституция из 56 статей, в соответствии с которой правил Юань Шикай, была в некоторой мере составлена по образцу основного закона французской Третьей республики. Должен был быть создан влиятельный двухпалатный
Из книги Третьего тысячелетия не будет. Русская история игры с человечеством автора Павловский Глеб Олегович21. Эпоха Голгофы и Великой французской революции. Термидор как человеческая попытка остановить себя средствами революции - Человек исторический, в общем, всегда готов себя переначать. Цепь событий, в которую он встроен, и наследований, которым подчинен, стимулирует
Из книги Век революции. Европа 1789-1848 гг. Век капитала. 1848-1875 гг. Век империи. 1875-1914 гг автора Хобсбаум Эрик Из книги Россия в 1917-2000 гг. Книга для всех, интересующихся отечественной историей автора Яров Сергей Викторович1.1. Ход революции Восстание в Петрограде Октябрьская революция 1917 года на своем начальном этапе довольно точно повторила сценарий февральского переворота. От центра к провинциям - таким был ее ход. Отправной точкой революции стал захват большевиками власти в
Из книги История Франции в трех томах. Т. 2 автора Сказкин Сергей ДаниловичОт буржуазно-демократической революции 4 сентября 1870 года к пролетарской революции 18 марта 1871 года В результате революции 4 сентября из-за недостаточной зрелости и слабой организованности пролетариата государственная власть досталась представителям буржуазных кругов.
автора Комиссия ЦК ВКП(б) Из книги Краткий курс истории ВКП(б) автора Комиссия ЦК ВКП(б) Из книги Тайны серебряного века автора Терещенко Анатолий СтепановичДве революции Тяжелое, если не катастрофическое положение на фронтах к 1917 году заставило некоторых политиков и генералов усомниться в правильности экономического и политического курса императора Николая II. Поражение России в Русско-японской войне 1904–1905 годов,
Из книги Краткий курс истории ВКП(б) автора Комиссия ЦК ВКП(б)1. Обстановка в стране после февральской революции. Выход партии из подполья и переход к открытой политической работе. Приезд Ленина в Петроград. Апрельские тезисы Ленина. Установка партии на переход к социалистической революции. События и поведение Временного
Из книги Краткий курс истории ВКП(б) автора Комиссия ЦК ВКП(б)6. Октябрьское восстание в Петрограде и арест Временного правительства. II съезд Советов и образование Советского правительства. Декреты II съезда Советов о мире, о земле. Победа социалистической революции. Причины победы социалистической революции. Большевики стали
Из книги Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век информации автора Миронов Борис Николаевич4. Социологические теории революции и русские революции На основе обобщения мирового опыта в политической социологии предлагается несколько объяснений происхождения революций в зависимости от того, какой фактор считается относительно более важным, - психосоциальное,
Буржуазная мысль понемногу движется вперёд. Она признаёт успехи СССР, за исключением одного, речь о котором ниже. Она готова признать неизбежность Октябрьской революции. Она уже знает об инвестиционных циклах в СССР 30-х годов. Она доходит до мысли о репрессиях 1937-1938 годов как о борьбе внутри правящего слоя. Её "беспокоит, хотя и не слишком удивляет, насколько упорно все российские проблемы и предлагаемые решения строятся вдоль шкалы, где за верхний уровень принимаются идеологические ценности и культурные практики некоего обобщенного Запада. Эта историческая шкала обычно называется модернизацией. Но одномерная перспектива искажает и реальные политические цели, и доступные России средства ". Кстати, авторы цитаты в своей статье снова и снова переходят к той же одномерной шкале. Практически во всех статьях журнала, из которого взята данная цитата , снова и снова проводится мысль о том, что несмотря на достижения СССР, его развитие должно было вернуть его на капиталистический путь. Можно было бы разобрать заблуждения в каждой статье этого журнала, но для этого пришлось бы писать слишком многа букафф, и это не разъяснило бы самые спорные вопросы: Почему распался СССР? Возможно ли было предотвратить распад? Дело не только в том, что буржуазная мысль вынуждена пользоваться ложными понятиями, и раскрытие её лживости ещё не разъясняет сущность явления. Дело в том, что сами эти вопросы ложны.
Я не понимаю нынешнего плача по почившему в бозе советскому образованию. Мы, советски образованные люди, не смогли противостоять лживой пропаганде эпохи перестройки и гласности. Нам говорили, что Маркс устарел, а мы только нерешительно кивали в ответ, и лишь немногие - с сомнением. Несмотря на наше "самое лучшее в мире образование", в 1983 году генсек ЦК КПСС отметил: "Если говорить откровенно, мы еще до сих пор не знаем в должной мере общество, в котором живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические. Поэтому вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, весьма нерациональным способом проб и ошибок". А теперь оцените его слова, учитывая дипломатический язык, которым он был вынужден пользоваться в 1983 году. "Не знаем в должной мере", "не полностью", "так сказать" - это сейчас звучит очень осторожно, а тогда это было как ведро холодной воды на голову каждому члену ЦК. "Не знаем в должной мере" означает, что не знаем настолько, чтобы действовать рационально, не знаем настолько, чтобы планировать, наша жизнь ничем не лучше капиталистической анархии, о недостатках которой твердит агитпроп. А зачем тогда были все эти усилия, без которых обошлись страны "некоего обобщённого Запада"? Это главная претензия к революции со стороны советского общества 80-х. Не будем говорить, насколько ложны были эти претензии. Будем говорить о революции.
В 1967 году Исаак Дойчер прочёл несколько лекций, изданных под названием "Незавершённая революция ". Когда я говорю о недостатках советского образования, я говорю в том числе о том, что такая работа появилась не в СССР. Не могла она появиться в СССР, и это его сгубило, в том числе.
Это лекции, а не подробная книга, поэтому изложение тезисное, с малым числом иллюстраций, почти без ссылок. Её тезисы трудно передать в сжатом виде, придётся их просто цитировать.
Рассуждения о русской революции почти всякого марксиста или буржуазного мыслителя, щеголяющего знанием марксизма, можно изложить двумя словами: "незаконная революция". Она нарушила законы марксизма. Дойчер пишет так: "Карл Маркс и его ученики надеялись, что пролетарская революция будет свободна от лихорадочных поворотов, ложного сознания и иррациональных решений, характерных для буржуазной революции. Конечно же, они имели в виду социалистическую революцию в ее «чистой форме»; они предполагали, что она произойдет в промышленно развитых странах, находящихся на высоком уровне экономического и культурного развития". Здесь было бы неплохо поместить ссылки на подобные надежды Маркса. Если у меня будет начитанный читатель, возможно, он укажет мне эти ссылки. Я же заметил, что говоря об общественном развитии, Маркс подчёркивал, что законы его проходят в виде тенденции, некоего общего направления, вырисовывающегося в людской суете. Сознание отдельных людей отражает состояние общества, уровень его развития. Если уровень развития общества таков, что его сознание истинно, то зачем ещё нужна революция? Если решения рациональны, то у действующих масс уже коммунистическое сознание. Вот, нынче действия властей по поддержанию капитализма иррациональны, безумны, и так же безумны действия масс, поддерживающих власти. Причём, это безумие наиболее выражено в наиболее развитых странах. И как при всём этом делать рациональную революцию? Революция есть не только преобразование способа производства, это и развитие общественного сознания, от капиталистического безумия к коммунистическому разуму. Но это не мгновенное дело. Это требует времени, действий, массы учатся коммунизму, а учёбы без ошибок не бывает. Потом, задним числом, люди поймут, что было верно, разумно Дойчер объясняет иррационализм советской истории противоречиями между двумя русскими революциями - буржуазной и социалистической, - но повторюсь, неизбежно иррациональны будут и многие действия революционеров в самой "чистой" социалистической революции.
Мы так привыкли говорить о буржуазных революциях, что теряем представление о вглядах самих действующих лиц на те события. Дойчер верно отмечает, что для главного революционного субъекта - восставшей массы - "не существует буржуазной революции. Они сражаются за свободу и равенство или за братство и общественное благосостояние". Даже предводителями этих масс не являются буржуи, и предводители не думают, что их действия на самом деле - буржуазная революция. Буржуи не руководят революцией, они берегут и преумножают свои капиталы. Но в конечном счёте восстание масс и их руководство разрушают условия существования предыдущего господствующего класса и создают условия для развития буржуазии, развития капиталистического способа производства. Трудящиеся массы получают новый хомут на шею, революционные деятели гибнут или вырождаются.
Дойчер повторяет, как многие другие историки и публицисты, что в России начала XX века рабочие составляли незначительное меньшинство в немногих крупных городах. Абсолютное большинство населения составляли крестьяне, которые за пятьдесят лет до того получили куцую юридическую свободу, но не получили главное - средство крестьянского производства - землю. Здесь Дойчер, как и многие другие, немного лукавит. Российское крестьянство не составляло монолитного класса. Интересующиеся могут открыть исследование Ленина "Развитие капитализма в России" и узнать, что к концу XIX века до половины сельского населения составлял пролетариат (На память. Там существенно, что голос в общине имело домохозяйство, но домохозяйства бедняков были малочисленнее. Если мне не изменяет память, исследование показало, что половина домохозяйств - пролетарские, безлошадные. По численности людей это менее половины.). Чтобы прокормиться, эти люди были вынуждены трудиться на своих богатых соседей или на сельских промышленных предприятиях, которые были довольно многочисленны. Таким образом, доля пролетариата в российском населении была довольно велика. Но деятельность определяется не только экономическим положением, но и сознанием, целями, которые ставят массы. Бедой российской деревни был земельный голод. Для прокормления одного человека требуется определённое количество земли (Интересующиеся могут узнать довольно точные цифры в исследовании Милова "Великорусский пахарь". Подчеркну, что Милов продолжил своё исследование далее упомянутого ленинского на два десятилетия, и отметил тенденцию к дальнейшей пролетаризации деревни.). Чтобы просто прокормиться крестьяне были вынуждены брать в аренду землю у помещиков, причём производили продукты не для продажи. Для оплаты аренды и податей зачастую им приходилось подрабатывать ремеслом. Таким образом, необходимо учитывать, что деревня не была монолитна экономически, но была едина в стремлении к разделу помещичьей земли.
События, связанные с Февралём 1917 года по привычке называют буржуазной революцией, но следует подчеркнуть, что это была весьма ограниченная революция. Трусливый Петросовет преподнёс на блюдечке власть буржуазному правительству, а это правительство в политической области смогло лишь подтвердить сделанное народом и не смогло сделать само ничего в экономической области. Вот вам типичный пример, когда руководить буржуазной революцией берётся буржуазия. Единственными партиями, поддержавшими чёрный передел, оказались большевики и левые С-Р. Происходившие в городах социалистические преобразования, установление рабочего контроля над производством, шли опять помимо решений буржуазного правительства. Но история известна моему читателю.
Дойчер подчёркивает коренное противоречие русской революции: "Народ по всей огромной крестьянской России бросился приобретать собственность, в то время как рабочие обеих столиц стремились отменить её". Дело в том, что деревенский пролетариат тоже полагал избавление от своих бед в переделе земли. Мол, лишь бы земельку получить, а там легче будет. Что раздел земли по крестьянским хозяйствам создаёт условия для развития капиталистических отношений в деревне, со всеми вытекающими из этого последствиями вроде разорения большинства крестьян, сами крестьяне просто не смогли бы понять, кто бы им это ни объяснял. "Учит только жизнь", и эта учёба была ещё впереди.
Через несколько лет после начала пролетарская революция осталась без промышленного пролетариата. Часть рабочих погибла в гражданской войне, часть рабочих перешла в органы государства, часть просто ушла с разорённых заводов, чтобы выжить мелким хозяйством. В России, по выражению Дойчера, возникло государство диктатуры несуществующего пролетариата. Это было ещё одно противоречие революции, иррациональность, и с этим надо было как-то жить.
Мировая революция тоже пока не происходила. И с этим тоже нужно было жить.
Что было делать большевикам? Что бы вы сделали на их месте, даже обладая сегодняшним послезнанием? Громогласно объявить, что "эксперимент не удался, приходите, буржуи, и владейте"?
Хотя село поставляло своих сыновей в армии всех воевавших сторон, его ущерб был незначителен по сравнению с городом. У крестьян было достаточно сил, чтобы распахать и засеять полученную землю, в то время как у города не было сил, чтобы сразу заработали заводы. У вчерашних сельских пролетариев появилась земля, и они были полны решимости обрабатывать её. Отдельные сельские коммуны распались, их тоже повыбили в ходе войны. Большевики могли только надеяться на восстановление и развитие промышленности, а пока отступили в деревне. Мелкий сельский собственник не мог хозяйничать без рынка.
Вообще, мелкий собственник присутствует на любом отрезке человеческой истории, начиная с времён образования соседской общины. Борьба общинников против своих удачливых соседей, против порабощения менее удачливых общинников своими соседями, борьба демоса против аристократии, привела к образованию классического рабовладения. Аристократия обратилась к захвату рабов вовне общины, и в этом ей помогал демос, поставляя воинов.
Мелкий собственник оказался производительнее рабов, и это привело к новой форме эксплуатации. Масса мелких собственников оказалась той почвой, на которой пророс капиталистический способ производства. Но несмотря на тенденцию, отмеченную Марксом в "Манифесте коммунистической партии", тенденцию роста численности промышленного пролетариата, класс мелких собственников не исчезает при капитализме. Роза Люксембург называла эти слои "докапиталистическими" и полагала, что они будут постепенно исчерпаны капиталистическим способом производства, что в пределе развития капитализма их поглотят два основных класса: капиталисты и промышленные рабочие. Приходится признать, что это была ошибка, капиталистический способ производства, как он есть, не только не может существовать без некапиталистических слоёв, но он же поддерживает их существование. Эти слои следует называть не "докапиталистическими", а "паракапиталистическими", если уж хочется как-то их определить. Капиталистическое общество подходит к рубежу социалистической революции с широким хвостом из мелкособственнических слоёв. (В качестве иллюстрации можно привести страну-флагман капитализма. Там ежегодно разоряются десятки тысяч мелких предпринимателей. Но это означает, что ежегодно образуются десятки тысяч мелких предприятий. И при этом никто не будет отрицать, что в США давно созданы и развиваются условия для деятельности буржуазии.)
Слова Дойчера о том, что "Россия созрела и в то же время не созрела для социалистической революции", можно применить к любой стране, на любом уровне развития капитализма, начиная с некоторого минимального. Но при этом ни об одной стране, даже с самым высоким уровнем развития капитализма, нельзя будет сказать, что она "вполне созрела для социалистической революции". В самом этом утверждении противоречие. Если созрела "вполне", то почему там до сих пор капитализм?
Далее в истории Советской России идёт то, о чём единогласно говорят и Дойчер и буржуазные идеологи из "Эксперта" - так называемая коллективизация, которую иначе как "насильственной" не называют. В рассказе буржуазных идеологов о временах так называемой новой экономической политики очень много сусального. Мол, крестьянин хозяйствовал, кормил страну, городская промышленность росла высокими темпами, и вдруг злобный Сталин по несущественному поводу (ну, не хотели владельцы продавать зерно государству по заниженной цене) набросился на несчастных. Причём, большевики разорили самых трудолюбивых, производительных, а оставшуюся голытьбу согнали в колхозы. Дальше был ужас, как крепостное право и т.д.
Сталин был не подарок. Он всякое устраивал. Например, на четырнадцатом съезде он заявил, что несмотря на политику партии по уменьшению социального расслоения в деревне, статистика указывает на увеличение этого расслоения. "Значит, статистика врёт!" Это середина НЭПа, благостное время. Партия стремится поддержать деревенского бедняка и ограничить деревенского богача. Но несмотря на это увеличивается доля и тех и других в сельском населении. Точнее, вторые вовсю увеличивают число первых, кормятся за их счёт. А как вы хотели? Это бизнес. В рыночной стихии из некоторых мелких собственников вырастают крупные, а остальные уходят в пролетариат. Крупные собственники тянутся к власти. Пример отца Павлика Морозова - типичный. Что делать диктатуре пролетариата? Теперь уже пролетариат существует. Промышленность в городах оживает. Тут произошла ошибка или предательство Сталина и его команды. По мере роста пролетариата надо было отдавать управление ему, так сказать, наполнять диктатуру пролетариата возникающим классом. Если верить исследованиям Юрия Жукова , какие-то мысли в этом направлении у Сталина были, но тут воспротивились партийные бонзы. В этом вопросе Дойчер не мог быть компетентен, поскольку Жукову удалось заглянуть в архивы, а Дойчер смотрел на всё это с далёкой стороны.
Часто говорят, что коллективизация была нужна для индустриализации. Но НЭП свернули бы и без этого. Новый капиталист не желал быть цивилизованным, как о том говорил Ленин. Ленин, например, в работе "О продовольственном налоге" говорил о том, что надо "не пытаться запретить или запереть развитие капитализма, а направить его в русло государственного капитализма". Государственный капитализм в этой ленинской работе - государственный контроль за капиталистическими предприятиями. Но плох тот капиталист, который терпит контроль над собой. Напротив, хороший капиталист мечтает установить контроль над государством. И нэпманы с кулаками старались.
И Дойчер, и буржуазные идеологи говорят о "насильственной" коллективизации. Но кто кого насиловал? В известной иллюстрации к коллективизации под названием "Поднятая целина" на хуторе Гремячий Лог действует только одно лицо, приехавшее из города - двадцатипятитысячник Давыдов. Все остальные - свои местные. Думаете, Шолохов слукавил? На деле, была некая тёмная сила, налетевшая на деревни, и согнавшая крестьян в колхозы? Или всё же коллективизацию сделала часть деревни против другой части? Полагаю, десятилетие НЭПа научило деревенскую бедноту, что в рыночных условиях большую часть самостоятельных хозяев разорят кулаки. Потому полагаю, что лозунг раскулачивания приветствовала большая часть деревни.
Говорят о том, что коллективизация нужна была для индустриализации как источник ресурсов, средств, которые выкачали из деревни. Мол, крестьян обобрали. Но при этом крестьяне в уменьшенном числе кормили город, численность которого увеличилась. Противоречие? Да, противоречием фактам в речах буржуазных критиков. Во всём мире сельское хозяйство преобразуется в направлении от мелких собственников к крупным предприятиям. Неважно, как называется это крупное предприятие: ферма, фирма, колхоз или совхоз. Дойчер написал: "Старая примитивная система мелкого землевладения в любом случае была слишком архаична, чтобы выжить в эпоху индустриализации. Она не смогла выжить ни в СССР, ни в США. Даже во Франции, которая являлась классическим примером такого хозяйствования, в последние годы численность крестьянства значительно сократилась. В России мелкое землевладение стало препятствием на пути прогресса: мелкие хозяйства неспособны были прокормить растущее городское население, они не могли даже прокормить детей в перенаселенных сельских областях". - Он тут же добавляет: "Единственной здравой альтернативой насильственной коллективизации являлась какая-либо форма коллективизации или кооперации, основанная на согласии крестьянства". - Но говорить о здравой альтернативе можно для здравого общества, которое развивается на рациональной основе, рационально оценивает свои возможности и сопоставляет их со своими целями. В Росии 1920-х годов было немного рациональсности, был влиятельный слой нэпманов и кулаков, которые сами не брезговали насилием и подчиниться могли только насилию, но никак не здравому рассуждению. Следует отдать должное Дойчеру, сказав о желательной форме коллективизации или кооперации, он отметил: "Нельзя сказать с определенной долей уверенности, насколько реальной была эта альтернатива в СССР".
Следует подчеркнуть, что из советской деревни образца 1920-х годов ещё нельзя было взять достаточно ресурсов для индустриализации. Собственно процесс раскулачивания тоже не давал ничего, разве что помог преодолеть кризис хлебозаготовок. Некоторый избыточный продукт и трудовые ресурсы могло дать объединение крестьянских хозяйств ещё на прежней технической основе, подобно тому как объединение ремесленников в мануфактуре давало добавочный продукт. Высвобожденные рабочие руки уже были направлены на строительство заводов, которые дали селу столь необходимые машины. Нельзя забывать, что всё это сопровождалось развитием образования и здравохранения. Крестьянин видел воочию выбор: или хаос НЭПа с разорением бедноты, или превращение в рабочего со значительным государственным обеспечением.
Говоря о советской истории нельзя обойти бюрократию, хотя бы потому, что многие товарищи уделяют ей чрезмерное внимание, а так называемы троцкисты ставят бюрократию во главу советского угла. Дойчер отметил, что возникновение мощного госаппарата в революционной стране было неизбежно вследствие уничтожения революционного класса. Государство диктатуры несуществующего класса не могло быть другим. Дойчер отказался навесить какой-либо ярлык на советский управленческий слой: "Привилегированные группы представляют собой нечто вроде гибрида: с одной стороны, они как бы являются классом, с другой - нет. Они имеют какие-то общие черты с эксплуататорскими классами других обществ и в то же время лишены их основных черт. Они пользуются материальными и другими привилегиями, упорно и яростно их защищают. Однако здесь надо избегать крупных обобщений... Чего у представителей этого так называемого нового класса нет, так это собственности. Нет ни средств производства, ни земли. Их материальные привилегии ограничены сферой потребления... Они не могут передать свое состояние наследникам, иными словами, они не могут утвердиться как класс". - Нельзя не подчеркнуть, что менее всего Дойчер готов был навесить бюрократии ярлык класса: Привилегированные группы не сплотились в новый класс. Они не смогли заставить людей забыть о революционных преобразованиях, в результате которых они получили свою власть; не смогли они и убедить массы - и даже самих себя, - что использовали эту власть в соответствии с задачами революционных преобразований. Иными словами, «новый класс» не смог завоевать признания обществом его законности. Он вынужден постоянно скрывать свое лицо, чего никогда не приходилось делать ни помещикам, ни буржуазии. Он как бы осознает себя незаконным сыном истории".
Советских управленцев отличала существенная черта, они старались преуменьшить своё отличие от трудящейся массы. Мало того, они стрательно подчёркивали в пропаганде, что являются всего лишь управляющими того предприятия, хозяином которого являются трудовые массы. Дойчер подчёркивал, что спустя 50 лет после начала революции, руководители страны всё ещё клялись в верности этой революции. Мы, в свою очередь, наблюдали это явление спустя ещё 20 лет после Дойчера. У того, кто возразит, что бюрократы всего лишь лгали, можно спросить, почему же ложь именно об этом, и почему так долго? Чтобы не создавать новые сущности, не следует ли признать, что ещё спустя 70 лет после начала социалистической революции, она продолжалась?
В этом смысле показателен один диалог из старого фильма "Великий гражданин". Два героя олицетворяют две стороны партийной борьбы 20-30-х годов: Пётр Шахов - сталинцев, и Алексей Карташов - неких обобщённых троцкистов-зиновьевцев-бухаринцев. Время диалога в фильме относится к последним годам НЭПа:
К: ...мне страшно. Страшно за страну, за партию, за нас с тобой! Мы всегда умели смотреть правде в глаза. Посмотри цифры, посмотри сводки! Страну лихорадит. Сто мильонов мужиков топоры точат. В городе безработица. Нэпман прёт со всех вывесок, из-за каждого угла. Мы стоим на страшном рубеже, Пётр! История меняет свой ход, она ломает все наши надежды. Ведь, вся наша стратегия родилась из расчёта на мировую революцию, а мы занимаемся мелочами, болтаем о наступлении, о подъёме промышленности, о техническом прогрессе в этой России, в этой толстозадой неповоротливой стране. Ещё хотим уговорить себя и других, что мы строим социализм!
Ш: А что же мы строим?
К: Это же не Маркс! Это Щедрин! Это у Щедрина помпадур устраивал либерализм в одном уезде. А так дальше продолжаться не может. Или гражданская война, или... или термидор... перерождение... гибель...
Ш: Страшные мысли.
К: Пётр! Я верю тебе Пётр! Я хочу, чтобы ты понял все мои сомнения, и если я прав, давай искать выход вместе, как большевики. Предложим партии, съезду...
Ш: Алексей, ты кому-нибудь рассказывал об этом?
К: Не-ет...
Ш: Ты говорил страшные вещи, и мне стало страшно. Только не за партию, не за страну, Алексей, а за тебя. Та-ак... Сто миллионов кулаков, гражданская война, термидор, перерождение, гибель. Значит, революция кончена, Алексей Дмитрич? Социализма нам не построить?
К: Я этого не говорил!
Ш: Но так получается, ты, видимо, об этом думал. Ты мне скажи, что мы строим? Скажи, что мы строим: социализм, который построить нельзя, буржуазную демократию или готовим почву для реставрации? Пойми, если сказать, что мы строим не социализм, всё лишается смысла: партия, советская власть, тысячи людей, которые умирали за это, - всё летит в пропасть. Ты понимаешь, что ты нагородил? Целые поколения ради этого на виселицу шли, на каторгу, в Акатуйскую ссылку. Ленин во имя этого сгорел. Мильоны людей поверили и пронесли это через голод, через тиф, через гражданскую войну. Люди голыми руками скалы ворочают и верят. И верят, что они строют социализм! А ты говоришь, что его нельзя построить!
К: Я не говорил, что его нельзя построить!
Ш: Но ты не сказал, что его можно построить!
Ш: ...вопрос стоит так: быть ли России, как ты сказал, толстозадой неповоротливой страной, или России социалистической!
Ш: ...с такими мыслями, с таким настроением, с таким неверием работать и руководить нельзя!
Дойчер довольно подробно рассмотрел не тот вопрос, который мы сейчас называем "Вопрос о природе СССР", у него природа СССР не вызывала сомнений. Он довольно подробно рассмотрел взгляд на природу СССР как изнутри страны, так и извне.
Человечество едино. Без признания этого нет смысла в дальнейшем его изучении. Очень хотелось бы мыслить это единое человечество, но приходится мыслить его частями, поскольку наше мышление ограничено нашей речью. О развитии человечества тоже приходится говорить как о развитии отдельных его частей. Поэтому мы говорим "английская буржуазная революция", "великая французская революция", рассказываем о них, как о чём-то целом, хотя это не более, чем части единой мировой буржуазной революции, которая в свою очередь есть одна из ступеней развития человечества.
Одним из отражений единства человечества и ограниченности нашего мышления о нём является то, что события происходят не там, где мы их ожидаем. Говоря о ступени социалистической революции, Ленин выразил это явление в понятии о "слабом звене" мировой капиталистической системы и в понятии о неравномерности развития стран. Прямолиненйное мышление некоторых марксистов приводит их к выводу, что каждая часть человечества должна пройти некоторый цикл развития, одинаковый для всех частей: рабовладение-феодализм-капитализм. Это прямолмнейное мышление, например, привело к тупости меньшевиков в 1917 году, и позднее - к их измене делу революции в то время, когда они полагали, что выражают её развитие. Дело в том, что каждая часть человечества проходит все ступени развития, но в составе единого человечества. Например, рабовладение в виде больших групп рабовладельцев и противостоящих им рабов существовало в нескольких центрах, но каждый такой центр влиял на жизнь периферии, которая оставалась ещё казалось бы на уровне варварства. Но это уже не было варварство времён отсутствия рабовладения, классический пример - войны Рима против европейских варваров.
Крепостное право в России XVII-XIX веков называли пережитком феодализма, но некоторые сомнения в этом вызывает хотя бы то, что установление этого "вторичного крепостного права" приходится на период, когда Россия вышла на европейский рынок зерна. Никто не сомневается, что рабовладение в некоторых районах Северной Америки было прямым следствием развития капитализма и т.п.
Диктатура пролетариата в России также ни по происхождению, ни по влиянию не есть внутреннее русское дело. Мы вынужденно говорим о "русской революции", "китайской революции", но всё это части единого потока мировой революции, причём единство таково, что мы лишь по ограниченности нашей речи рассматриваем эти части по отдельности и по отдельности рассматриваем их связи с другими частями.
Дойчер полагал национальное государство достижением. Я полагаю это сомнительным достижением. Реальность такова, что пролетариат осуществляет мировую революцию, будучи разделён на отдельные национальные отряды, и его диктатура приобретает национальные черты. Из многочисленных диктатур пролетариата, возникших на обломках империй после мировой войны, у власти осталась только диктатура союза республик на территории бывшей Российской империи. Отсюда родилась концепция "построения социализма в одной стране". Дойчер не полагает эту концепцию неправильной, она была вынужденной, он утверждает, что ошибкой было развить эту концепцию до "окончательного построения социализма". Дойчер говорит, что следовало с самого начала объяснять людям и внутри и вне страны, что СССР идёт по пути строительства социализма, но без революций в других странах не может дойти до полной победы социализма, что полная победа возможна только в мировом масштабе и надо было стремиться к расширению революции.
Кстати, создатели фильма "Великий гражданин" отразили и это настроение. В той части фильма, которая рассказывает уже о первых успехах индустриализации, Пётр Шахов, обращаясь к молодёжи говорит: "Эх, лет через двадцать после хорошей войны выйти да взглянуть на Советский союз, республик, эдак, из тридцати-сорока! Чёрт его знает, как хорошо!" (Бурные продолжительные аплодисменты. Не шучу, так показано в фильме.) Ещё в 1939 году в журнале "Большевик" было выражено мнение о грядущей мировой революции в результате мировой войны.
Вынужденная концепция "строительства социализма в одной стране" превратилась в концепцию "окончательного построения социализма в одной стране". Это как бы снимало ответственность с самых передовых отрядов пролетариата в развитых странах Запада, превращало их в сочувственных наблюдателей. При этом, как говорит Дойчер, они не сознавали всех трудностей на пути социалистических преобразований в России, поэтому преувеличивали неудачи и ошибки, благо буржуазная пропаганда, создавая видимость свободы слова, всячески способствовала преуменьшению достижений и преувеличению недостатков СССР. В результате "миллионы рабочих Запада за эти годы пришли к выводу, что социализм ничего не дает, а революция ни к чему не приводит" (напомню, что это сказано в 1967-м году).
Классовая борьба пришла в тупик. Неправильно было бы винить в этом полностью сталинцев. Передовые отряды западного пролетариата тоже могли бы проявить свои передовые свойства. Дойчер подробно разбирает развитие китайской революции, её независимость от сталинской бюрократии, независимость от концепции "построения социализма в СССР". Дойчер напомнил слова Энгельса: "Освобождение пролетариата может быть только международным делом. Если вы попытаетесь превратить это в дело одних французов, вы сделаете это невозможным. То, что руководство буржуазной революцией принадлежало исключительно Франции, - хотя это было неизбежно благодаря глупости и трусости других наций - привело, вы знаете куда? - к Наполеону, к завоеванию, к вторжению Священного союза. Желать, чтобы Франции в будущем была предназначена такая же роль, - значит хотеть извращения международного пролетарского движения..." (Собрание сочинений, т. 39, стр. 76) - и подчеркнул слова "хотя это было неизбежно благодаря глупости и трусости других наций".
Обнадёжив массы ложным утверждением о построении социализма в одной стране и затянув это построение (а по-другому и не могло быть) сталинцы пришли в конце концов к тому, что "за эти 50 лет революция почти полностью дискредитировала себя в глазах народа, и никакие Романовы не смогут реабилитировать ее". Мы помним это общественное мнение, которое проявилось во времена перестройки. О Романовых Дойчер помянул в связи с таким рассуждением: "И хотя реставрация всегда была для нации огромным шагом назад, даже трагедией, она имела и положительную сторону, поскольку демонстрировала разочарованному народу неприемлемость реакционной альтернативы". - Нынешнее положение, реставрация не режима Романовых, но возврат в лоно капитализма, таково, что дискредитирован уже не режим какого-то царька, но сам его величество капитализм.
Подводя некоторый итог развития СССР, можно ли однозначно говорить о преждевременности революции? Безусловно, нет, и в этом проявляется иррационализм революции, которым столь недоволен был Дойчер. Он повторял пожелание Маркса о том, что социалистическая революция будет свободна от того иррационализма, который проявила буржуазная революция, но противоречил желаемому, говоря: "Люди, вступившие в борьбу, не признают поражения, пока не началась сама битва, - ведь именно в сражении решается судьба борьбы". В этом смысле революция безумна, поскольку никакой ум, даже самый гениальный, не рассчитает успех до битвы. Конечно, в иные моменты явно видно преимущество той или иной стороны, но это не переломные моменты. В переломный момент равновесие весьма шатко и неопределённо. А самое главное в том, что историю делают люди. Вот, те люди, которые есть сейчас, со всем их ограниченным умом, и делают сейчас историю.
Но вернёмся к прогрессу буржуазной мысли. Мало-помалу, до неё доходит причина распада СССР. В статье "Плановый фантом " она выражена словами: "Советская модель экономики рухнула под тяжестью дисбалансов и диспропорций. Виной тому — искаженные представления советского руководства о планировании". Дойчер не уделял много внимания в своих лекциях планированию производства в СССР, отмечая лишь его большую эффективность по сравнению с эффективностью капиталистического производства. Действительно, если исключить из пятидесяти лет годы войн и восстановления разрушенного хозяйства, советская экономика стала такой, какой её ещё застал Дойчер, приблизительно в течение двадцати пяти лет. Недаром ему приписывают слова о Сталине, сохе и атомной бомбе, настолько впечатляющи успехи. Автор указанной статьи старательно замалчивает успехи, преувеличивая недостатки. Она даёт весьма расплывчатый очерк истории советского планирования, указав лишь на одно противоречие: между хозяйственниками, выполнявшими план, и руководством, диктовавшим план. Но это противоречие тривиально, понятно, что оно будет в любой плановой системе. Даже не понятно, как из такого расплывчатого неконкретного исследования автор пришёл к такому правильному выводу: с отказом от централизованного планирования и исполнения плана "единая социально-экономическая, кредитная и финансовая политика в СССР перестала существовать".
§ Глава 1. Историческая перспектива
§ Глава 2. Остановка на пути развития революции
§ Глава 3. Социальная структура
§ Глава 4. Тупик в классовой борьбе
§ Глава 5. Советский Союз и Китайская революция
§ Глава 6. Выводы и прогнозы
Глава 1. Историческая перспектива
Каково значение русской революции для нашего поколения и нашего времени? Оправдала ли революция возлагавшиеся на нее надежды? Естественно желание вновь обратиться к этим вопросам сегодня, через 50 лет после падения царизма и образования первого советского правительства. Годы, отделяющие нас от событий тех лет, дают нам, как представляется, возможность рассматривать их в исторической перспективе. С другой стороны, 50 лет - не такой уж большой срок, тем более что в современной истории не было периода, столь богатого событиями и катаклизмами. Даже самые глубокие социальные потрясения прошлого не поднимали столь важных вопросов, не вызывали столь яростных конфликтов и не пробуждали к действию столь крупные силы, как это сделала русская революция. И революция эта не завершилась, она продолжается. На ее пути еще возможны крутые повороты, еще может измениться ее историческая перспектива. Так что мы обращаемся к теме, которую историографы предпочитают не затрагивать или, если все-таки и берутся за нее, то проявляют чрезвычайную осторожность.
Начнем с того, что люди, стоящие сейчас у власти в Советском Союзе, видят себя законными наследниками большевистской партии 1917 года, и мы все считаем это само собой разумеющимся. А ведь для этого едва ли есть основания. Современные революции ничем не напоминают переворота в России. Ни одна из этих революций не продолжалась полвека. Характерной особенностью русской революции является преемственность, хотя бы и относительная, в том, что касается политических институтов, экономической политики, законодательства и идеологии. Ничего подобного в ходе других революций не наблюдалось. Вспомните, что представляла собой Англия через 50 лет после казни Карла I. К этому моменту английский народ, пережив уже времена Английской революции, Протектората и Реставрации, а также «славную революцию», пытался в период правления Вильгельма и Марии осмыслить богатый опыт бурно прожитых лет, а - еще лучше - забыть все, что было. А за полвека, прошедших со времени взятия Бастилии, французы свергли старую монархию, пережили годы якобинской республики, правления термидорианцев, Консульства и Империи; они были свидетелями возвращения Бурбонов и вновь низвергли их, посадив на трон Луи Филиппа, и половина из отпущенного его буржуазному королевству срока истекла к концу 30-х годов прошлого века, поскольку на горизонте уже маячил призрак революции 1848 года.
Повторение этого классического исторического цикла в России представляется невозможным хотя бы в силу того, что революция в ней продолжается необычайно долго. Невозможно себе представить, чтобы Россия вновь призвала Романовых, хотя бы для того, чтобы во второй раз сбросить их с трона. Невозможно себе также представить, чтобы русские помещики вернулись и, подобно французской земельной аристократии в годы Реставрации, потребовали вернуть им поместья или выплатить компенсацию за них. Крупные французские землевладельцы находились в изгнании лишь около 20 лет; однако, вернувшись, они чувствовали себя чужими и так и не смогли вернуть себе былую славу. Русские помещики и капиталисты, находившиеся в изгнании после 1917 года, поумирали, а их дети и внуки, конечно, уже и не мечтали стать владельцами богатств своих предков. Фабрики и шахты, когда-то принадлежавшие их отцам и дедам, составляют лишь малую часть советской индустрии, которая была создана и развивалась в условиях общественной собственности на средства производства. Канули в Лету все те силы, которые могли бы осуществить реставрацию. Ведь давно уже прекратили свое существование в каком бы то ни было виде (даже в изгнании) все партии, образовавшиеся при старом режиме, включая партии меньшевиков и эсеров, игравшие главные роли на политической сцене в феврале - октябре 1917 года. Осталась лишь одна партия, которая, придя к власти в результате победоносного Октябрьского восстания, по-прежнему единовластно правит страной, прикрываясь флагом и лозунгами 1917 года.
Однако не изменилась ли сама партия? Можем ли мы на самом деле говорить о последовательности развития революции? Официальные советские идеологи отвечают, что преемственность никогда не нарушалась. Существует и противоположная точка зрения; ее сторонники утверждают, что сохранился лишь фасад, идеологический камуфляж, скрывающий действительность, ничего общего не имеющую с высокими идеями 1917 года. На самом деле все намного сложнее и запутаннее, чем можно судить на основании этих противоречивых высказываний. Давайте на минутку представим себе, что безостановочное развитие революции - лишь видимость. Тогда возникает вопрос: почему Советский Союз столь упорно цепляется за нее? И каким образом эта пустая форма, не наполненная соответствующим содержанием, просуществовала уже столько времени? Мы, конечно, не можем принять на веру заявления сменявших друг друга советских лидеров и правителей об их приверженности провозглашенным в свое время идеям и целям революции; однако мы не можем и отвести их как несостоятельные.
Поучительны в этом отношении исторические прецеденты. Во Франции через 50 лет после событий 1789 года никому и в голову бы не пришло представлять себя продолжателем дела Марата и Робеспьера. Франция к этому времени забыла о той великой созидательной роли, которую сыграли в ее судьбе якобинцы. Для французов якобинство означало лишь изобретение ужасной гильотины и террор. Лишь немногие социал-доктринеры, такие как, скажем, Буонарроти (сам пострадавший во время террора), стремились реабилитировать якобинцев. Англия уже давно с отвращением отвергла все, за что стояли Кромвель и его «ратники божьи». Дж. М. Тревельян, чьей благородной работе в области истории я посвящаю свой труд, пишет об очень сильных отрицательных чувствах даже в годы царствования королевы Анны. По его словам, с окончанием периода Реставрации вновь пробудился страх перед Римом; тем не менее
«события пятидесятилетней давности пробудили (в англичанах) и страх перед пуританством. Свержение католической церкви и аристократии, казнь короля и жесткое правление «святых» надолго оставили о себе недобрую и неизгладимую память, подобно тому как это произошло с «кровавой Мэри» и Яковом II». Сила антипуританских настроений сказалась, по мнению Тревельяна, в том, что в царствование королевы Анны «в оценке гражданской войны преобладала точка зрения кавалеров и англиканцев; в частных выступлениях виги высказывались против этой точки зрения, однако открыто заявить об этом решались не часто» .
Тори и виги спорили по поводу «революции», однако речь-то они вели о событиях 1688-1689 годов, а не о 1640-х. Лишь через двести лет англичане стали по-другому смотреть на «великое восстание» и с большим уважением говорить о нем как о революции; и лишь спустя многие годы после этого перед палатой общин была воздвигнута статуя Кромвеля.
До сих пор русские ежедневно толпами устремляются к Мавзолею Ленина на Красной площади, чтобы почти с религиозным благоговением почтить его память. После разоблачения Сталина тело его вынесли из Мавзолея, но не разорвали на части, как тело Кромвеля в Англии или Марата во Франции, а тихо похоронили у Кремлевской стены. А когда его преемники решили частично отказаться от его наследия, они заявили, что обращаются к духовному источнику революции - ленинским принципам и идеалам. Без сомнения, перед нами причудливый восточный ритуал, основанный, однако, на мощном чувстве преемственности. Наследие революции проявляется в той или иной форме в структуре общества и в сознании народа.
Время, конечно же, понятие относительное, даже в истории: полвека - это и много, и мало. Преемственность тоже относительна. Она может быть - и есть - наполовину настоящей, наполовину кажущейся. У нее есть солидная основа, и в то же время она непрочна. У нее есть и крупные достоинства, и недостатки. Во всяком случае, преемственность революции иногда резко обрывалась. Об этом я надеюсь поговорить позднее. Однако сама основа преемственности достаточно прочна, и ни один серьезный историк не должен превратно истолковывать ее или забывать об этом, изучая русскую революцию. Нельзя рассматривать события этих 50 лет как одно из отклонений от нормального хода истории или как плод зловещих замыслов кучки злых людей. Перед нами огромный живой пласт объективной исторической реальности, органический рост социального опыта человека, громадное расширение горизонтов нашего времени. Я, конечно, говорю в основном о созидательной работе Октябрьской революции. Февральская революция 1917 года занимает свое место в истории как прелюдия к Октябрю. Люди моего поколения были свидетелями нескольких таких «февральских революций» - в 1918 году в Германии, Австрии и Польше, в результате чего потеряли троны Гогенцоллерны и Габсбурги. Однако кто сегодня скажет, что германская революция 1918 года - крупное определяющее событие века? Она не затронула старого социального порядка и оказалась прелюдией к подъему нацизма. Если бы Россия остановилась на Февральской революции и дала бы - в 1917 или 1918 году - русский вариант Веймарской республики, вряд ли кто-нибудь вспоминал сегодня о русской революции.